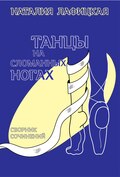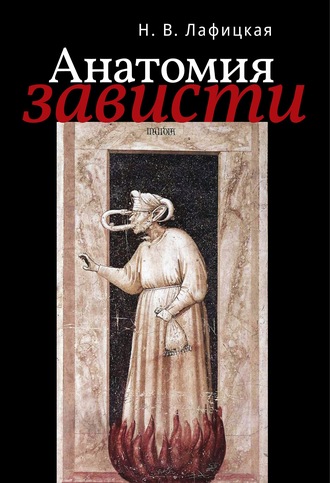
Н. В. Лафицкая
Анатомия зависти
Глава 1
Психосемантический анализ конструкта Зависть
§ 1. Семантика слова Зависть
Несколько слов вначале о том, что такое семантика. Семантика в широком смысле слова – анализ отношения между языковыми выражениями и миром, реальным или воображаемым, а также само это отношение (ср. выражение типа семантика слова) и совокупность таких отношений (так, можно говорить о семантике некоторого языка). Данное отношение состоит в том, что языковые выражения (слова, словосочетания, предложения, тексты) обозначают то, что есть в мире, – предметы, качества (или свойства), действия, способы совершения действий, отношения, ситуации и их последовательности. Термин «семантика» образован от греческого корня, связанного с идеей «обозначения» (ср. semantikos – обозначающий).
Семантика отвечает на вопрос, каким образом человек, зная слова и грамматические правила какого-либо естественного языка, оказывается способным передать с их помощью самую разнообразную информацию о мире (в том числе и о собственном внутреннем мире), даже если он впервые сталкивается с такой задачей, и понимать, какую информацию о мире заключает в себе любое обращенное к нему высказывание, даже если он впервые слышит его. Интересен в этом отношении анализ пословиц, поговорок, крылатых изречений.
Итак, мы попытались объяснить, почему в исследовании феномена зависти необходим психосемантический анализ.
Смертными в христианстве называют грехи, которые ведут к смерти души. Библия не приводит точного списка смертных грехов, но предостерегает от их совершения в десяти заповедях.

1. Аз есмь Господь Бог Твой: да не будут Тебе бози инии, разве Мене.
2. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им.
3. Не приемли Имене Господа Бога твоего всуе.
4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему.
5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да дологолетен будеши на земли.
6. Не убий.
7. Не прелюбы сотвори.
8. Не укради.
9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.
10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего.
Список восходит к восьми помыслам Евагрия Понтийского, однако печаль заменена на зависть, а тщеславие объединено с гордостью (впервые в такой редакции встречается у Григория Великого в VII веке). Концепция семи смертных грехов получила распространение после трудов Фомы Аквинского (XIII век).
Всего смертных грехов семь: 1. Гордыня. 2. Алчность. 3. Зависть. 4. Гнев. 5. Блуд (Похоть), б. Обжорство (Чревоугодие). 7. Уныние.
Нас будет интересовать, какие чувства возникли в ходе развития общества и человека, а какие являются прачувствами, т. е. какие чувства явились базой для всех последующих и были ли они. Мы будем искать точку отсчета. Нам надо будет разобраться во многих вещах, мы хотим узнать о зависти все, что можно, мы хотим понять, как зависть влияет на наше поведение. Что ее провоцирует и что редуцирует. Мы хотим знать, где она «живет», «по каким дорогам ходит». И что нам с ней делать. Или как нам с ней жить.
Любое научное исследование строится на допущениях и предположениях. Это и есть гипотеза. А поскольку наше исследование коснется глубокой древности в том числе, нам без допущений и предположений не обойтись никак.
Для начала пойдем от этимологии слова. Интересно посмотреть на два смысловых ряда, предложенные академиком Н. Марром и А. Потебней.
Первый ряд: крес – огонь[10]
красота – крада, костер, жертвенник, воскресать
прекрасный – украдкой, красть завидом, завидовать, зависть вихрь.
Второй ряд: «огонь», «жечь», «гореть», «печь».
А. Потебня выводит целую группу понятий, связанную с сильнейшими человеческими чувствами: поживать, пожирать, жажда, жадность, зависть, желание, желанный, жалость, печаль, горе, горечь, гнев.
«История и язык (то есть его создание и усовершенствование) это сменяющие друг друга деятельности человеческого духа…»
«…Язык есть вечно повторяющееся усилие (работа) духа сделать членораздельный звук выражением мысли…»[11]
Изучению мифологических основ народной лирики много внимания уделял А. А. Потебня. После него проблемой мифологических традиций в народных лирических произведениях, по сравнению со сказками, былинами, заговорами и пр. исследователи занимались мало и фрагментарно. Это направление в науке было несправедливо и надолго забыто.
Мы видим, что зависть по своей семантике относится к мощным древним чувствам. Слово это выводится из понятия «огнь (огонь)», и нам надо понять, чем же являлся огонь для наших пращуров. И найти (или не найти) некие соответствия, поскольку на вопрос о социальной детерминированности тех или иных эмоций нам в конце исследования придется отвечать.
Слова любого языка не образуются в виде случайного или свободного набора звуков и столь же случайного привязывания их к обозначаемым объектам. Существует некая общая закономерность, обусловленная структурой энергетического поля Вселенной. На подобной трактовке происходящего настаивали многие великие умы России. Знаменательно, что именно в России, ставшей родиной научного учения о биосфере и переходе ее в ноосферу и открывшей реальный путь в космос, уже с середины прошлого столетия вызревает уникальное космическое направление научно-философской мысли, широко развернувшееся в XX веке. В его ряду стоят такие философы и ученые, как Н. Ф. Федоров, А. В. Сухово-Кобылин, Н. А. Умов, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, В. Н. Муравьев, А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, Н. Г. Холодный, В. Ф. Купревич, А. К. Манеев. В философском наследии мыслителей русского религиозного возрождения – B. C. Соловьева, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева – также выделяется линия, близкая пафосу идей русского космизма. Имеется в виду то направление в русской православной философии, которое Н. А. Бердяев называл «космоцентрическим, узревающим божественные энергии в тварном мире, обращенным к преображению мира» и «антропоцентрическим… обращенным к активности человека в природе и обществе». Именно здесь ставятся «проблемы о космосе и человеке», разрабатывается активная, творческая эсхатология, смысл которой, по словом Бердяева, в том, что «конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека».
Следовательно, не смысл зависит от языка, а, наоборот, язык зависит от смысла и для выражения этого смысла создается. Это дает основания полагать, что на заре становления человеческого рода все языки имели общую основу (праязык), и, следовательно, сами народы (праэтнос) имели общую культуру и верования. И мы можем говорить об определенных чувствах (прачувствах), которые отражаются в ранних (древних) свидетельствах. В Нестеровой летописи (1106) мы читаем: «…быша человеци мнози и единогласии» (говорили на одном языке). В Лаврентьевской летописи (1377) читаем: «род один и язык один». В Библии: «на всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11:1).
Подобные высказывания есть не только в славянских источниках. Предания об общем для всех языке (а для нас важно, что и культурных традиций) зафиксированы в самых разных концах земного шара, у самых разных народов, например в древнейших шумерских текстах. Мы читаем у Вернадского: «Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей – Homo sapiens и его геологических предков Synanthropus и др. Нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей как закона природы»[12]. Ряд современных исследователей эту идею разделяет. «В основе всех языков, культур и народов, а тем более этнолингвистических общностей вроде индоевропейской или семитской, лежат священные мифоритуалы сотворения мира (космогонические мифы). Они образуют типолого-хронологический ряд, довольно устоявшийся за 82 столетия развития земной цивилизации, начатой примерно с 6300 года до н. э. древнейшим в мире государством Араттой»[13].
Одни ученые-языковеды к теории моногенеза языка (следовательно, и культуры) относятся скептически, другие считают эту теорию основной. Мы разделяем последнюю точку зрения. Древние арии (некогда нерасчлененная этнолингвистическая и социокультурная общность) были классическими солнцепоклонниками. В их мировоззрении солнце имело много видов и, следовательно, имен. Было связано это с тем, что наши предки летнее и зимнее солнце, например, воспринимали как разные. Солнце на Востоке не было равно солнцу на Западе. В «Махабхарате» дается более ста имен солнечного божества. В древнеславянской мифологии известны такие имена солнца: Хорс, Коляда (Коло), Ярило, Купало. Эрос и Ярило – имена с общей корневой праосновой единого праиндоевропейского божества. Подтверждением этому служит происхождение имени Геры – древнеиндийской богини, супруги Зевса. Яростно-мстительная, ревнивая, завистливая, необузданная, вспыльчивая натура Геры – точное воплощение ее первобожественной сущности, отражающей восприятие нашими пращурами окружающего их мира. Но и само имя Гера первоначально звучало как Яра. Славянские имена Ярослав, Ярополк, Яровит являются однокорневыми с именем Гера. У древнеиндийских богов самым главным выступает краснолицый Сурья, от которого и возникло понятие красно солнышко (сурик, с(у)рьезный – из этого же семантического гнезда). Но в пантеоне богов есть еще один небесно-солнечный бог – Svar в переводе с санскрита обозначает небо, солнце, дневной свет. Этот же корень лежит и в основе имени главного древнеславянского бога – Сварога.
От исходной корневой основы создалось множество производных слов. Например, к этому ряду примыкают близкие по смыслу слова с корнем -вар-, первоначально имевшие в древнерусском языке значение жар, зной, кипящая смола, вода. Отсюда слово варить и его производные. Обратите внимание на устойчивые словосочетания, связанные с отображением зависти: «сгорела душа», «выжгло душу варом», «глаза зависти, как языки пламени», «душа вареная, на корысти настоянная».
Корень -вар- напрямую связывается с именем главного ведийского бога Варуна.
Нам придется еще больше углубиться в этимологию, чтобы вывести общие базовые верования и, следовательно, эмоции. Общеарийский корень -var- в различных модификациях присутствует в именах трех главных богов: древнеславянского, древнеиндийского и древнегреческого. Сварог – Варуна – Уран. Сварог – отец Солнца и олицетворяющего его Дажьбога. В Ипатьевской летописи (1114) читаем: «…Установил одному мужчине одну жену иметь и жене за одного мужчину выходить; если же кто нарушит этот закон – ввергнут его в печь огненную. Того ради прозвали его Сварогом и почитали египтяне». Мы видим, что, помимо установления нравственно-этических норм, в летописи имеется вполне конкретное указание на общие корни верований между египтянами и православными.
Слово огонь (огнь) имеет общие корни с именем древнеиндийского бога огня Агни (agni – огонь). В древнейшем своде обрядовой поэзии «Ригведе» значительная часть стихов посвящена именно этому богу.
Оно и понятно. Огонь в те далекие времена (рукотворный огонь) был той стихией, которая помогала выживать. Он давал тепло, жар для приготовления пищи, отпугивал диких животных, помогал совершать обряды (сжигание мертвых), при помощи огня проводились ритуальные действия, огнем могли наказывать и казнить. Огонь был и нерукотворный: молнии, лесные и степные пожары, извержения вулканов. Этот огонь почти всегда нес смерть и, следовательно, страх. Его сложно, а подчас и невозможно было контролировать. Он появлялся, когда хотел, и все сжигал. В одном из древних текстов мы читаем: «Душа горит, все нутро мое пышет. Никакой водой ледяной не залить жар этот. Я сгораю изнутри, так я ненавижу его и смерти его желаю. И как же я боюсь огня своего». Прекрасное описание состояния зависти. Зависть, по всей видимости, сравнивалась именно с нерукотворным огнем, с неудержимой стихией. Или еще одна литературная иллюстрация: «…упала маленькая искра, от молнии наверно. И вдруг пламя громадное стало. Так больно мне. Не задувается пламя, не остужается душа. Чернеет все вокруг, и глаза слепнут. Пелена зависти затягивает их. И вот я уже чую запах крови и радостно мне»[14]. Мы упоминали, что в древнерусском языке имеется еще одно название огня – крес. Корневая основа сохранена в слове кресало (вышедшее из употребления приспособление для добывания огня). Можно посмотреть на целый ряд понятий этой семантической основы: красный, краса, красота, прекрасный, краска. К этому ряду примыкает глагол кресать или крестить, что имеет два значения: «высекать огонь» и «воскрешать» (оживлять). «Игорева храброго полку не кресите», – читаем мы в «Слове о полку Игореве». С большой степенью достоверности можно сделать вывод о том, что происхождение таких важных и даже архиважных понятий в русском миросозерцании, как воскрешать и воскрешение имеет древнейшее дохристианское происхождение, и, следовательно, те чувства, для описания которых использовались метафоры, связанные с огнем, также имели древнейшее происхождение.
Церковно-славянское же крадо (близкое по своей этимологии со словом крес) означает, как мы уже говорили, костер, огонь, жертвенник. В современном языке семантика слова изменилась: украсть, украдкой. Что вполне понятно, поскольку огонь крадет, сгораемая вещь исчезает.
В славянской и индоевропейской культуре был особенно развит и популярен культ Утренней Зари, предшественницы (предвестницы) дневного света (рассвет). По древнеиндийской традиции, Утренняя Заря (богиня Ушас) – дочь неба. В славянском фольклоре Утренняя Заря называется Оком (окном) божьим. «Зори утрени от очей Господних» читаем в «Голубиной книге». Отсюда понятна однокоренная родственность слов заря – зори с лексическим гнездом: взор, зоркий, зрак, зреть, позор, зариться. Давайте вспомним выражение «позариться на чужое», то есть позавидовать чужому. Обратите внимание, что позор и зариться (завидовать) стоят рядом. Завидовать было позорным.
Когда-то, приступая к анализу исторических корней волшебных сказок, В. Я. Пропп писал: «…возможны случаи, когда первоначальная основа обряда настолько затемнена, что данный обряд требует специального изучения. Но это – дело уже не фольклориста, а этнографа. Фольклорист вправе, установив связь между сказкой и обрядом, в иных случаях отказаться от изучения еще и обряда – это завело бы его слишком далеко»[15]. Мысли В. Я. Проппа представляются актуальными. Каков бы ни был характер известных нам календарно-аграрных обрядов посвящения, в них сохранилось достаточно подробностей, заставляющих при осмыслении тех или иных действий к этим обрядам обращаться.
Представления о неограниченных возможностях космических сил, их влияние на человеческую жизнь всегда было ядром народного мировоззрения. Оно передавалось из поколения к поколению вместе с языком, вековыми традициями и тем самым, что мы называем русским духом.