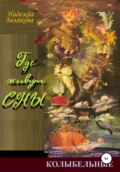Надежда Александровна Белякова
Марс Семёнович Яблочный
Забылась песня его молодости, их с Валентиной любимая: «И на Марсе будут яблони цвести!» Новые времена принесли и новые, чужие песни. И точно гниль перезрелого яблока коснулась и души Марса Семеныча, вползла тоскливой и безысходной печалью ненужности на земле всего того, что было так важно для него и дорого. Что было его миром, жизнью каждого дня. И упрямо падали яблоки на землю в том, обреченном на вырубку бывшем колхозном яблоневом саду, пренебрегая всеми его усилиями селекционера и изобретателя новых, неизвестных науке удобрений. Неизвестных, потому что времена такие настали, что наука стала обществу не интересна и не востребована. А преданные науке люди резко перестали быть уважаемыми членами нового, постперестроечного общества, а мигом превратились в «местных чудиков» – дурачков, которые вместо того, чтобы посвятить себе зарабатыванию денег, занимаются мутными и неприбыльными делами.
Вот и погнала его из дома в сад та тоска. Прямо среди августовской ночи, когда висела над Ругачёвом полная луна нестерпимым прожектором, лучи которого, точно метла бессонной уборщицы, изгоняют покой и сон из всех уголков дома. И никакими шторами от полнолуния не спастись. Что в наши времена, когда достоинство человека стало измеряться размером достатка, и порой неважно как добытого. Потому что даже в новостях по ТВ все чаще в словах дикторов, когда речь шла о грабежах и воровстве, проскальзывало уважительное «работа». Пришел он, чтобы проститься с яблоневым садом, ставшим таким же лишним и ненужным в наступившей новой жизни. Захватил с собой старенький, еще кассетный магнитофон с любимой кассетой, на которой жила любимая песня: «И на Марсе будут яблони цвести!» И еще притащил два тяжеленных чемодана с химикатами, чтобы составить самое последнее из его изобретений: чудо-удобрение. Вроде как на прощанье угостить сад, пока его еще не вырубили. Он гладил стволы яблонь, называя их по данным покойной Валентиной красивым и звучно-гордым названиям сортов, словно именам при рождении. Сорта – гордость его селекции: «Глория», «Аделаида спелая», «Марсианские поздние» – эти были особенно лежкие, до самой весны пролежать могли, не портясь. И, конечно, любимые, из первого выведенного с Валентиной вместе, – «Ругачёвские ранние» яблоки, те, что весной такими махровыми цветами цветут, что по розовому цвету и пышности цветка от пиона не отличить. Он лил им в корни свои удобрения из лейки, точно прощальную чарку наливал каждой яблоньке. И после каждого полива нежно шептал, обращаясь к ним уважительно:
– «Аделаида спелая», «Фердинанд-рафинад»…
Он обнимал и целовал шершавые стволы и нижние ветви яблонь, вдыхая запах листвы и яблок, разогретых жаркой августовской ночью. И когда осталось совсем немного удобрений, на одну лейку, Марс Семеныч пошел полить и ту яблоню, что вызрела новыми яблоками в первую наступившую без Валентины осень. Так он и назвал эту яблоню нового сорта ее именем: «Валентина Ругачёвская». Назвал уже сам, без нее – эту ладную яблоню, цветущую по весне незабудками. С красноватыми листиками в форме сердечек. И созревающую мелкими-мелкими, очень красивыми и сладкими яблочками, для варенья. Отдаленно напоминавшими знаменитую в пятидесятые китайку, или «райские яблочки». Они тоже были с мелкими яблочками, это был сорт, выведенный специально для варенья. А теперь редко где встретишь тот сорт. Невостребованным стал. Еще бы, в любом деревенском магазинчике столько разного варенья и джемов, что перестал народ сам варенье варить. Вот и позабыли такой сорт.
Марс Семёныч включил негромко в ночи: «И на Марсе будут яблони цвести!»
И пошел Семёныч к своей раскидистой, увешанной блестящими яблочками, как новогодняя елка игрушками, как украшениями поблескивающими в темноте густой листвы, как прощальные слезинки. Подошел к «Валентине» с полной, тяжелой лейкой, чтобы полить яблоню, угостить и ее на прощание. Да чуть не выронил лейку. Но, глубоко вздохнув, поставил свое удобрение медленно на землю, не отрывая изумленного взгляда от яблони. На одной из нижних ветвей сидела странная крупная птица, которую Марс Семеныч сначала принял за сову. Но пригляделся и увидел, что крепкие и цепкие лапы птицы, рябые крылья по бокам и правда были похожи на совиные. А выше… На грудке птицы оперение редело и заканчивалось, словно вырез пушистого платья. И грудка, милая и округлая, переходила в полноватую округлую шею. Такую знакомую и родную. И вместо мордочки совы – личико такое любимое. И молодое-молодое, как в те времена, когда они еще только начали «Марсианские поздние» выводить с Валюшей, его женой, тоже молодым специалистом, колхозным селекционером.