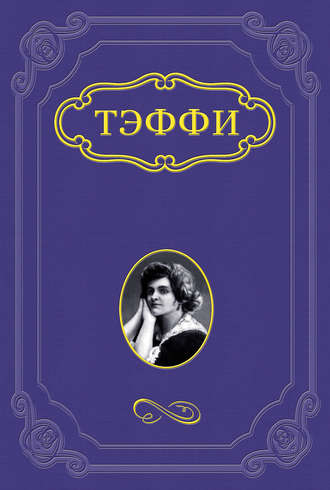
Надежда Тэффи
Выбор креста
В ответ послышалась недовольная басовая воркотня вполголоса. Потом снова женский голосок сказал решительно:
– Ну что ж делать. Я пойду сама, ты пойми, что это единственные мои чулки. Все остальные собака растащила и разодрала. Что? Ну так что же? Не съест он меня, твой деловой человек.
Дверь осторожно открылась, и молоденькая женщина в розовой пижаме, всклокоченная и смущенная, вошла в комнату.
– Простите, – сказала она. – Муж сейчас выйдет. Он пишет… Я здесь забыла…
Она проворно бегала глазами по полу, взглянула на стол и, увидев розовую резиночку, искренно обрадовалась:
– Ах, и это здесь? Хорошо, что я увидела.
И, повернувшись в сторону двери, из которой вышла, закричала:
– Шурка! Не ищи корсета, я его нашла. И чулок на нем.
Она улыбнулась Ермилову самой светской улыбкой, вытащила из-под журнала свой корсет, на котором действительно висел чулок, помахала приветливо рукой, словно из окна уходящего поезда, и захлопнула за собой дверь. Через несколько минут вошел Эрбель, длинный, растерянный. Одной рукой он придерживал ворот своей рубашки и беспомощно искал что-то глазами – очевидно, потерянный галстук.
– Простите, ради бога! – смущенно сказал он. – Здесь такой хаос. Я сейчас буду готов, и мы можем пойти тут рядом в кафе, там будет удобнее поговорить.
Он развел руками, заглянул за диван и вышел.
Через минуту за дверью раздался его отчаянный вопль:
– Так зачем же ты завязала собаке мой галстук! Это же идиотство, какому имени нет.
А в ответ раздалась декламация:
Оттого, что душе моей имени нет
И что губы мои нецелованы!
Наконец Эрбель вышел вполне готовый, потыкался по передней, ища шляпу, но очень быстро сам заметил ее под стулом, тряхнул, дунул и открыл дверь на лестницу.
Они уже шагали по тротуару, когда звонкий голосок пропел над ними:
Ты глаза на небо ласково прищурь,
На пьянящую, звенящую лазурь…
Эрбель сердито прибавил шагу, а Ермилов поднял голову и увидел на балкончике второго этажа розовую фигурку, и в ту же минуту что-то мокрое больно щелкнуло его по носу. Это был брошенный розовой фигуркой цветок, очевидно, вытащенный из вазы, где давно сгнил, потому что весь ослиз, раскис и скверно пахнул. Ермилов тем не менее его поднял.
– Это не вам! – кричал сверху звонкий голосок. – Это злому Шурке, любимому моему ангелу.
«Любимый ангел» обернулся и прошипел Ермилову с самой звериной рожей:
– Да бросьте вы эту мерзость! Вы себе весь пиджак испачкали.
Ермилов шел и улыбался.
«Какая удивительная женщина, – думал он. – С такой не соскучишься. Все в ней поет, все в ней звенит…»







