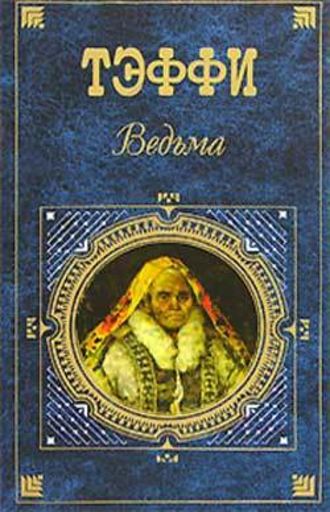
Надежда Тэффи
Заяц
– Чего ж это ты сидишь-то? Наваждение египетское! – удивилась Матрена.
Шевельнулся заяц чуть-чуть, а не уходит. Подняла его Матрена, смотрит – одна лапа красная, подстреленная.
– Несчастный ты!
Потащила зайца в сани. Заяц был тяжелый, и сердце у него так шибко стучало, что даже нос дрожал.
– Ишь ты! – удивлялась Матрена. – Зверь малый, а душа как и ни у коровы, – все понимает.
Обтерла снегом зайцеву лапу, перевязала тем самым платком, где в узелке золотой закручен был, усадила зайца в сани, рогожкой прикрыла.
– Сиди уж, коли бог убил. Грейся! Чего уж тут! Рази я что? Я ведь ничего.
Говорила с зайцем, как с деревенским дурачком Гринюшкой, – громко и толково, чтоб лучше понимал.
Тронула вожжи, чмокнула. Теперь уже не было тяжелых сомнений насчет лавочникова обсчета. Теперь мысли были самые приятные. Все про зайца. Как будет заяц под лавкой жить или у печки; у печки теплее, только чтоб под ногами не путался.
– Вот поправится, будет Петрунька с ним играть. Петрунь, ты чего животную мучаешь? Ты не смотри, что он мал! Он-то мал, да душа-то у него, может, как и ни у коровы, – все понимает! Ишь, сидит! Быдто человек. Васька! А, Васька! Застудился ты, что ли?







