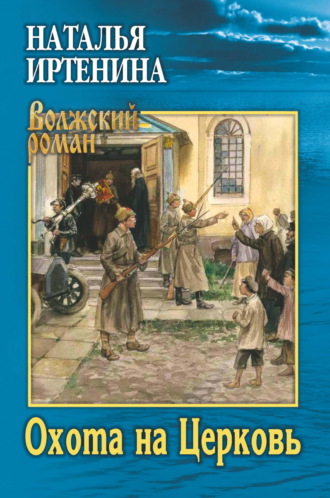
Наталья Иртенина
Охота на Церковь
После уроков за Севкой в школьном дворе увязался Митька Звягин, шпанец и задира, уже пробовавший курить и лапать девчонок. Знакомы они были несколько месяцев, с тех пор как Морозова посреди учебного года зачислили в шестой класс школы на Казанке. Но завести дружбу не получалось. Севка со своим опытом жизни в таежной ссылке после раскулачивания родителей туго сходился с городскими ребятами. А у Митьки была своя компания, в секреты которой посвящать посторонних он не торопился.
– Молоток, Морозов! Здорово ты Венику козу сделал. Теперь отца в школу вызовут.
– У меня нет отца, помер. Я со старшим братом живу.
– А мать?
– Тоже померла.
– Ух ты! Брат небось не всыплет за неуд. Но если тебе нужно, можем спереть в учительской журнал и вытереть твой неуд. Ты сегодня герой, Морозов. Хочешь, возьмем тебя в нашу банду?
Митька кивнул на стоявших поодаль двух дружков.
– А у вас что, банда? – хмыкнул Севка. – Лавки грабите или на базаре кошельки режете?
– Мы – «Смелые бандиты», – понизив голос, сообщил Звягин. Сплюнул через зубы себе под ноги, сбил набок кепку. – Зовемся так. Союз борьбы за народное дело. Слышал? Сокращенно СБНД. «Смелые бандиты».
– Не слышал. – Севка замедлил шаг, потом остановился. – А я вам зачем?
Митька покрутил головой по сторонам, подождал, пока пройдет по дорожке шумная мелкота из начальных классов. Опять сплюнул.
– Смотрел кино «Юность поэта», про Пушкина? Видал, как они там против держиморд? За вольность! И хрясь рюмку об пол! – Звягин соорудил позу: отставил ногу, сорвал кепку и руку с нею вздел кверху. Звонко продекламировал: – Питомцы ветреной судьбы, тираны мира, трепещите! А вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!.. Ты бы так смог, Морозов?
– Как – так?
– Как Пушкин. Против тирана. Против усатого тирана, Морозов.
Севка задумался.
– Пушкин не дурак небось был. – Он подтянул сумку на плече и зашагал, демонстрируя, что разговор кончен. Путь до города был неблизкий. Посреди учебного года не нашлось для Севки школы поближе к дому.
– А кто дурак? – крикнул вслед Митька.
Морозов не ответил. Звягин пожал плечами: ну нет так нет. Позвал дружков, Вована и Гераську. В середине дня у них была назначена встреча с городской шпаной, враждовавшей с поселковыми. Обычно такие сходки заканчивались серьезной потасовкой с кровоподтеками, выбитыми зубами и порванной одеждой, но в этот раз Митька задумал дело. До кинотеатра «Унион», где должны были состояться переговоры, от железнодорожного поселка три километра. Часть пути они прошли скорым шагом, обойдя Морозова и окатив его надменным равнодушием. Руки в карманах, кепки сдвинуты ниже бровей, башмаки бьют по лужам. Встречные тетки и старухи с сумками, с мешками за спиной загодя убираются на другую сторону дороги. Скоро компания нагнала пустую телегу, с разбойным свистом запрыгнула в нее. Бородатый мужик-возница угрюмо посмотрел на лихую пацанву и гнать не стал.
Пустырь через улицу от кинотеатра когда-то занимала церковь. Теперь от церкви остались торчащие из земли обломки, зараставшие березовыми прутиками. Главарь городских, Сашка Анциферов, уже ждал. Шпаны с ним было немного, всего трое, но остальные могли хорониться неподалеку. Митька помахал кепкой, показывая миролюбие. Они сошлись, встали друг против друга.
– Наше вам с кисточкой.
– И вам не кашлять. С чем пришли?
Про Сашку Анциферова, в свои четырнадцать уже прославившегося как отчаянный уличный боец и отпетый хулиган, говорили, будто родня у него из бывших людей, из каких-то знаменитых дворян, и мать – ссыльная. Он водил знакомства среди настоящих воров, носил им передачи в муромскую тюрьму. Из школы его не раз выгоняли, над ним висела угроза колонии. Митька его побаивался.
– Дело есть. Ты же все ходы-выходы в кинотеатре знаешь. Вот… – Звягин расстегнул пуговицы толстой трикотажной куртки и вынул из-за пазухи сверток темного полотна. Встряхнул, разворачивая. На черном поле расправила свои концы, завернутые углом, гитлеровская свастика, неровно намалеванная белой краской. – Повесим на крыше. Надо прицепить к радиомачте.
Анциферовские с присвистом обступили полотнище. Трогали руками, тыкали в свастику, проверяя прочность краски.
– Это ж сколько денег на такую мануфактуру пошло! Где достали?
– Где достали, там уже нет. Стырили. Ну что, по рукам? Взамен вот. – Митька протянул в сторону ладонь, и Гераська вложил в нее маузер с рыжими пятнами на металле. – Ржавь можно очистить, патроны достанете.
– Не по рукам, – наотрез отказался Анциферов. – Мы с такой мутью не связываемся. А вы придурки чокнутые. Пошли, – кивнул он своим.
– Слабо, да? – разочарованно и зло бросил им в спины Звягин. Это не подействовало. – У тебя правда мать монашка? Как же ты у нее появился?!
Анциферов круто развернулся и сделал три быстрых шага. Но вдруг остановился.
– Я не буду тебя бить, шпунтик. Если набегут легавые и вас заметут с этой тряпкой, здесь зачистят все до сырой земли. Поэтому я вас отпускаю. Но если попадетесь мне еще, целыми и здоровыми вам не быть.
Митька вернул оружие приятелю, скомкал полотнище и сунул за пазуху. Упрямо сжав зубы, он отправился самостоятельно исследовать подходы к кинотеатру. Смелые бандиты Вовка и Гераська плелись следом.
7
Пальцы, привыкшие гнуть гвозди и крутить нож, плохо справлялись с письменными упражнениями. Черновые наброски показаний свидетелей и протоколы допросов старший оперуполномоченный Старухин чаще всего отдавал печатать машинистке. Но составление планов оперативных мероприятий доверить никому было нельзя, и Старухин по-школярски корпел над бумагой.
«…3. Запрос в область нащет попа Аристархова.
4. Вызвать Чертополоха для дачи свидетельств…»
Раздался одиночный стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошел старый знакомый. Одернул синий милицейский китель, снял фуражку, пригладил короткие с ранней проседью волосы.
– Вызывали, гражданин Старухин? – сухо осведомился он.
– Это ты брось, Прищепа, – усмехнулся чекист, убирая бумагу. – Какой я тебе гражданин? Мы с тобой товарищи, одно дело делаем – зачищаем страну от вредных насекомых. От всякой сволочи.
– Гусь свинье не товарищ. – Милиционер поворотил голову в сторону.
– Садись, Иван Созонович, – весело предложил Старухин. – Не любишь ты себя, не бережешь. Свиньей вот назвался. Я тебя свиньей не считаю. Ты, Прищепа, настоящий охотничий пес. Но уже старый, хватку потерял.
– Ближе к делу, Макар, зачем я тебе понадобился? – Прищепа уселся, отодвинув стул к торцу стола. – Дел невпроворот, а тут еще к безопасности в гости забегай.
– Ты, гляжу, запыхался, пока от соседнего дома бежал. Ну лады, давай о деле, муха-цокотуха. В декабре прошлого, тридцать шестого года ты, тогда еще оперуполномоченный НКВД, расследовал церковный бунт в Карабанове, когда сельсовет пытался закрыть церковь. Дело не было доведено до конца, не арестовали главного зачинщика, попа Аристархова.
– Все изложено в следственном деле, возьми в архиве и читай.
– Я тебя сейчас не допрашиваю, Иван Созонович. Ты не ерепенься. Мы с тобой тут по-дружески разговариваем. Ты мне так, своими словами скажи, что за фуфло там вышло. Почему, когда тебя вытурили, дело не передали другому?
– Потому что я сам в январе сдал его в архив.
То дело о бабьем бунте в Карабанове не задалось Прищепе с самого начала. Он будто чувствовал, что оно станет последним в его чекистском послужном списке, что скоро с его шеи снимут эту цепь. Да и сама история с неудавшимся закрытием храма, на защиту которого поднялись колхозницы и старухи, саднила в его душе какой-то своей неправильностью, несправедливостью. Решение сельсовета и райисполкома о закрытии обосновали тем, что церковное здание требует ремонта, а приход не может его обеспечить. Деньги едва наскребывают на выплату усиленного налога, которым облагаются организации религиозного культа. В начале декабря на дверь церкви повесили замок, а через несколько дней местные комсомольцы пришли сбрасывать с купола крест. Тут уж сельские бабы не выдержали, подняли клич. Насели скопом на председателя сельсовета, чуть не побили, заставили отдать ключи от церкви. Мужики только смотрели на них, сами в драку не лезли, оно и понятно: с женского полу спрос у органов меньше, припугнут и отпустят. Мужику же неповиновение властям обернется статьей, вплоть до расстрела – высшей меры социальной защиты. Настоятель церкви, священник Аристархов, по справедливости говоря, был и вовсе ни при чем. Развоевавшийся женский взвод действовал без него.
– Арестовал я тогда двух самых буйных церковниц из числа приходской двадцатки, – рассказывал Прищепа. – Допросил с три десятка. Все в один голос попа выгораживали. Не участвовал, не агитировал, мы-де сами взбеленились, вожжа под хвост попала. В село приезжал инструктор райкома Брыкин, решено было закрытие церкви временно отложить. В те дни как раз Верховный Совет утверждал новую Конституцию… В общем, райком договорился с Кольцовым замять ситуацию.
– Муха-цокотуха… – Старухин изумленно качал головой. – Такое дело о контре и терроре проворонили. Не завелось ли и в нашем райкоме гнездо троцкизма, а, Вань? Там же стреляли. По комсомольцам, которые с церкви крест снимали. Об этом что в деле есть?
– Ничего нет. Выстрела никто не слышал, кроме напарника пострадавшего. А ему могло померещиться. Тот парень, что свалился с купола, нес околесицу про какой-то гром. Бабы на допросах твердили про Божью кару. Пули нет, оружия нет, свидетелей нет.
– Свидетели есть, Иван Созонович, – с нажимом сказал Старухин. – Только ты с ними плохо отработал. Придется допрашивать их повторно.
– Попробуй, – двинул складками на лбу Прищепа. – Если найдешь кого. Того, что с купола сверзился, парализовало. В первый день еще мог слова выговаривать, а потом всё. Ртом двигает, глазами водит, мычит и стонет. Второй в январе утонул. В полынью провалился.
Старухин выругался.
– Эх, какую ты мне малину сейчас потоптал, Ваня… – Он откинулся на спинку стула, чиркнул спичкой и затянулся папиросой. – Видел ли я от тебя хоть когда какое-нибудь добро, Ваня? Хоть что-нибудь хорошее? Нет, не видел. Ты на меня цепным псом смотрел и до сих пор смотришь. А ведь я тебе никакого зла не делал. Веришь? Хватал себя за руки: не делай, Макар, зла Прищепе, не бей его из-за угла, спрячь свою обиду на Ваньку.
– Ты к чему это ведешь, Старухин?
– Я, Иван Созонович, подыму это дело о нерасследованном акте террора в Карабанове. Я из него образцово-показательную конфету сделаю на радость начальству. Просто обязан буду проверить халатные действия бывшего оперуполномоченного Прищепы. А может, они вовсе и не халатные, а? Рыльце-то у тебя уже в пуху, взыскание имеешь в личном деле за сочувствие классовому врагу. Может, того второго комсомольца по твоей подсказке в полынью макнули?
– Ты что несешь-то, Макар? – Прищепа подался вперед, сжал до белых костяшек ребро столешницы. – Отомстить мне наконец решил, сволочь бандитская?
– Ни грамма личной неприязни, Иван Созонович. – Старухин вскинул обе руки. – Я тебе, веришь ли, даже благодарен, что ты тогда вытащил меня из тисков преступного мира. А то где б я сейчас был. На зоне очередной срок мотал бы или червей в земле кормил.
В двадцать пятом году главаря шайки грабителей по кличке Квадрат ловила вся уездная милиция. Банда нападала на кооперативные лавки, брала склады, обчищала нэпманов, на ней висело несколько убийств. Когда вышли на след Квадрата, он несколько месяцев водил милицию за нос, ускользал прямо из рук. Старшему милиционеру Прищепе он попался почти случайно, на бандитском кураже переоценил собственную ловкость. Суд дал Старухину год тюрьмы. Учли его прежние заслуги перед революцией и Советским государством. За бывшего сотрудника ходатайствовало руководство муромского ОГПУ: в Гражданскую войну Старухин служил в продотряде, потом в ЧК. Но проворовался и был тихо вычищен из органов. Подался в бандиты. А после тюрьмы взялся за ум. Добровольцем отправился коллективизировать село, сделался активным борцом с кулачеством. С подправленной репутацией и благодарностью от райкома партии восстановился в органах безопасности. Судимость с него сняли.
– Если думаешь мне угрожать, гражданин Старухин, то напрасно. – Прищепа вернул себе спокойствие. – Я тебя не боюсь. Ничего ты не нароешь в том деле.
– Это, Ваня, смотря как рыть. Ты же не знаешь ничего, а у нас новые инструкции сверху по выявляемости вражеской агентуры… – Чекист заговорил примирительно: – Я тебя еще не спросил, как тебе на новом месте? Сытно?
– Да не так чтобы, – осторожно ответил Прищепа. – Милицию так не кормят, как безопасность. Но там я на своем месте. Если б не мобилизовали меня в ОГПУ в тридцать первом, был бы сейчас лейтенантом милиции. У меня, Макар, талант к поимке бандитов, ты знаешь.
– Знаю, знаю. Не гляди на меня как гражданин начальник на урку. Мы с тобой старые стреляные воробьи, Ваня. А кто старое помянет, тому глаз вон. Главное, чтобы каждый был на своем месте, так? Мне партия доверяет, а вот тебе – с оглядочкой. Подвел ты партию.
– Видно, в милиции я партии нужней. Настоящих преступников ловлю, а не колхозных доходяг.
– Колхозные доходяги самые настоящие бандиты и есть, – с твердой уверенностью заявил Старухин. – Хищный народ, муха-цокотуха. Тянут у государства все, что под руку попадет. Кулацкая психология. Даже если батраком был, все одно в кулаки глядел, привычки перенимал у хозяев. А мы с этим боремся, с хозяевами. С собственниками. Воровство в колхозах главный элемент классовой борьбы, Ваня. Ты этого не сумел понять, поэтому ты не с нами. И смотри… мы с тобой можем и по-настоящему оказаться по разные стороны этого стола. Ты – троцкистская гнида, я следователь…
– Сказал же, не бери на понт, – презрительно парировал Прищепа.
– Какой понт? – оскалился чекист. – Шуткую я с тобой, мусор.
Иван Созонович встал, с грохотом уронив стул.
8
К половине девятого утра от будки с надписью «Хлеб» растянулся плотный хвост на полсотни метров. Лица у людей тусклые, смурные, усталые. Есть злые, нервные или с выражением безучастной покорности. На мужчинах затертые пиджаки, латаные куртки, видавшие виды телогрейки, засаленные кепки. Женщины, от молодух до старух, тоже одеты бедно и неказисто, иные в мужниных пиджаках, в грубых башмаках или солдатских кирзовых сапогах.
Хлеб выдают по килограмму в руки. Рослый мужик в грязно-белом халате отмеряет на глаз, отмахивает ножом, бросает кусок на весы. Недобор – отрезает ломоть от целой буханки, довешивает. Перебор – прицельно отчекрыживает лишнее.
– Что дают, а? – В конец очереди пристроился бородатый дедок в доисторическом зипуне и войлочной шапке-колпаке. – Хлеб дают?
– В морду дают, – вылетело хмурое из людского скопления.
– Всем или только стахановцам? – сострил дед. – Э-эх, – вздохнул он громко, оценив размер хвоста. – Счастливые люди, привыкаем к социализму.
– Ты чего егозишь, старый? – Угрюмого вида рабочий попытался урезонить шутника. – Видал, что на улицах уже пишут? – Он кивнул на стену дома, к которому прислонилась хлебная лавка.
Дедок просочился сквозь очередь к стене и уткнул нос в приклеенный листок из школьной тетрадки, исписанный крупным детским почерком. Дальше, в десятке метров, висел такой же. «Долой Сталина! – требовала листовка. – ВКП(б) – банда шкурников, грабителей и убийц. СССР – Смерть Сталина Спасет Россию».
– Эге, – почесал под шапкой старик, возвращаясь в очередь. – Это кто ж такое пишет?
– Известно кто. Японские шпионы. А то, может, немецкие.
– Найдут ли, родимых? – озабоченно спросил дед.
– Найдут, куды они денутся.
Люди приглушенно загомонили, остерегаясь громких речей и криков. Коллективный разум очереди сознавал, что шум сейчас поднимать не нужно, звать милицию нельзя. Иначе лавку прикроют до завтра и хлеба не будет.
– Да всыпать горячих этим шпиёнам! От горшка два вершка, а туда же – в троцкисты.
– Правильно там все написано! – в сердцах сказал тот же рабочий. – Зарплату задерживают, жратва из магазинов исчезла. Вот и выполняй план на заводе. Тут не о плане думаешь, а чем семью кормить, во что детей одеть-обуть.
– Как надоела такая жизнь, – вздохнула женщина в пальто с аккуратными заплатами. – Пасха скоро, куличи надо печь, а муки не достать. В очередях не постоишь полдня, останешься голодным…
– Сестра пишет, в деревне колхозники мрут, – прошамкала старуха рядом с ней.
– Развелось подлецов, – громко произнес человек с портфелем в руке. – Но ничего, НКВД не дремлет.
После этого выступления очередь настороженно притихла. Люди прятали друг от друга глаза, делали вид, что ничего не слышали. Получали хлеб, спешно уходили. Даже дед-остряк стоял молча. Перед самым его носом фанерная заслонка в окошечке будки со стуком захлопнулась. Хлеб кончился. Занимавшие за стариком стали понуро разбредаться, тихо ругаясь. Но дед сдаваться не хотел. Он забарабанил по заслонке.
– А ну давай хлеб! – закричал он на высунувшуюся голову продавца. – Не то я щас вот эти бумажки снесу куда надо. Заявлю, что вы на эту контрреволюцию злостно не реагируете. А может, и сами развесили!
Рука старика показывала на стену с листовками. Заслонка опять опустилась, через секунду из будки вышел мужик в халате. Прочитал ближайшее воззвание, сдернул листок и ушел обратно в лавку. Окошечко отворилось, оттуда показался большой волосатый кулак.
– Сам снесу!
– Э-эх, – загрустил старый и поплелся по улице.
* * *
Варвара Артамонова успела получить хлеб. Без всякой мысли о том, что видела и слышала в очереди, она месила уличную грязь на окраине города и лишь твердила про себя: «Слава Богу!» У пожарной части ее обогнала телега, окатила юбку мутными брызгами из глубокой рытвины. Возница обернулся.
– Варвара Андревна? Прощения просим. Садись, подвезу. Не побрезгуй.
Узнав Степана Зимина, девушка инстинктивно подалась назад. Но соблазн проехать четыре версты до села, а не бить ноги пересилил. Она робко примостилась на задке телеги, возница тронул коня.
По сторонам дороги потянулись черные бугристые колхозные поля, недавно вынырнувшие из-под снега. Зимин, уставший от молчания, ибо не с кем ему было говорить по душам в его одинокой жизни, пытался наладить разговор. Отчего-то завел речь про листовки с крамолой, которые опять кто-то ночью расклеил в городе.
– Не нра-авится городским советская власть, – с растяжкой произнес он. – Поздно спохватились… – Он оглянулся на девушку и досадливо спросил: – Что ты как язык проглотила? Твой отец не говорил, что ты немая. Подай голос-то, Варвара, коль живая.
Ответ прозвучал не быстро и озадачил Зимина.
– Боюсь я вас…
– Чего это?
– Страшный вы.
– Чего страшный-то? – не понимал он.
– Всю семью похоронили. Жену, детей…
– Не своими же руками я их. – В словах Зимина прорезалась жесточь. – Сами померли.
– Все равно. Душа у вас мраком покрылась. Закоростела, омертвела… не чувствует, верно, ничего.
– Значит, говоришь, мертвый я, – горько усмехнулся он.
– Кто же захочет заново начинать после такого… – испуганно докончила свою мысль Варвара.
– Захочет! – резанул бывший раскулаченный, бывший ссыльнопоселенец, бывший лагерный заключенный. – Ты мне скажи, кто хочет мертвым оставаться? Все жить хотят. Вот и я хочу. Коль меня советская власть в землю не уложила, я ей, ведьме бодливой, наперекор жить буду.
И стал рассказывать.
Выгрузили их из вагона для перевозки скота на станции среди голой степи. Несколько часов везли на телегах до поселка. Поселок был – врытый в землю столб с номером, даже без названия. Стали строить поселок. Рыли землянки, покрывали сухими стеблями. Рядом – могилы. На весь поселок один колодец. Ветра, дожди, сорокаградусные морозы. Хлеба крохи. Подножный корм из вареного бурьяна. Для обогрева – кизяк и сухостой подсолнечника. К весне семьи ополовинивались или вовсе вымирали. За первый год в переселенческом районе выжила едва треть ссыльных. Из нескольких десятков тысяч. Зимины хоронили детей одного за другим. Через два года остался лишь семилетний Матвей. Потом померла от изнурения и болезни жена. Трупы зимой кидали в вырытый заранее ров как чурки, не закапывали до тепла. Оставшись вдвоем с сыном, Зимин стал с ужасом наблюдать, как тает и угасает его последний ребенок. Однажды не выдержав, угнал у поселковой охраны подводу, уложил в нее тощее тельце сына и помчал лошадь на станцию. Смог попасть в поезд до Караганды. На полпути его сняли. Он вышел из вагона под конвоем, неся на руках мертвое дитя. Но даже похоронить тело ему не дали. В тюрьме он узнал приговор: три года лагеря за побег из спецпоселения и кражу подводы.
Зимин рассказывал не оборачиваясь, не глядя на Варвару. Спина ссутулилась. Лошадь, не чувствуя хозяйской руки, шла все медленнее.
Варя плакала. Вытирала мокрые щеки концом головного платка и снова проливала слезы.
– Ну что, все еще боишься меня?
– Жалею, – всхлипнула девушка.
Зимин остановил лошадь и пересел к Варваре.
– Хорошая ты девка… Выходи за меня.
Она ткнулась заплаканным лицом ему в плечо.
9
Вербное воскресенье выдалось солнечным, сочно-ярким от чистого, сверкающего голубизной неба и распушенной зелени. День обещал быть жарким. Над вишенными деревьями и огородными грядками старой колхозницы Пахомовны, что сдавала половину избы семье священника, порхали бабочки-капустницы. «Первые в этом году», – с ребячьей радостью заулыбался гость, отец Петр, бывший когда-то духовником муромского Троицкого монастыря. Годы его перевалили за семьдесят, но отец Петр был крепкий старик и мог бы еще служить, если б нашлось ему место. В Муроме и муромской округе обосновалось слишком много ссыльного духовенства – более молодых, обремененных семьями священников. Потому отец Петр Доброславский пребывал на покое за штатом и даже благодушествовал на сей счет.
Небольшой стол, за которым едва поместились трое клириков, был вынесен из дома во двор, покрыт белой скатертью и уставлен яствами. Трапеза состояла из вареной картошки с молодой крапивой, кусочков серого хлеба, трех жареных карасиков, которых отцу Алексею Аристархову поднесли в честь праздника его прихожане, и травяного чая. «Вельможный пир по нынешним временам», – сказал отец Петр, всегда находивший повод для своего неиссякаемого благодушия.
Вторым гостем был дьякон карабановской кладбищенской церкви. Отец Олег выглядел полной противоположностью отцу Петру. Еще молодой, но вид имел болезненный и всегда страдающий. На жизнь дьякон смотрел с философским скепсисом, хоть и не читал никогда ни одного философа и не знал ни единой философской сентенции. Философия его заключалась в пессимистическом взгляде на вещи и удрученном воздыхании по любому поводу. При всем том отец дьякон был здоров, женат и семеро по лавкам не обременяли его семейную жизнь.
– А вы неплохо замаскировались, отец дьякон, – подтрунивал отец Петр над его коротко стриженной головой, небольшой французской бородкой и пиджаком с брюками. – Ни дать ни взять лояльный советский гражданин. Не то что мы с отцом Алексеем, долгополые и долгогривые. По нам сразу видно – махровая контрреволюция.
– Так удобнее ходить по улице, батюшка, – смущенно объяснил дьякон. – Чтобы не ловить на себе косые взгляды. А то ведь мальчишки и камнями кидаются.
– Еще как кидаются, – улыбнулся отец Алексей. – Прямо как древнеизраильских блудниц побивают нас камнями.
Хлопнула калитка в заборе. По дорожке к дому шел старший сын отца Алексея с холщовой сумкой на плече. Увидев трапезующих и чуть поколебавшись, он зашагал к ним.
– Зачем вы пришли, отец Петр? – без предисловий насел он на старого священника. – Отец по своей доброте вас позвал, но вы могли отказаться сослужить с ним. Как будто не знаете, что власти запрещают вам служить не в своих храмах. Вам-то что, вы и так не зарегистрированы в комиссии культов, а у отца теперь могут быть неприятности.
– Михаил! – прикрикнул на сына отец Алексей. – Замолчи, пожалуйста! Это грубо и отвратительно с твоей стороны. Вечером мы серьезно с тобой поговорим, а сейчас извинись перед нашим гостем!
– Ну что вы, отец Алексей, не нужно извинений, – добродушно произнес отец Петр. – Дорогой Миша, если бы ты был сегодня в храме, то знал бы, что я не сослужил твоему отцу в алтаре, а молился как простой прихожанин. Ты прав, твой папа слишком добр и щедр, что хотел поделиться со мной праздничным кружечным сбором. Но я, конечно, не мог этим воспользоваться и принял его приглашение, чтобы не огорчить своим отказом.
– Извините, – смутившись, пробормотал подросток и направился к дому.
– Ты закончил монтировать вашу радиоточку? – нагнал его вопрос отца.
– Нет, я за инструментом. У них там нет нужной отвертки.
– А вот кстати насчет кружечного сбора, – подхватил отец дьякон, внезапно воодушевившись. – На Пасху, кажется, придет много народу. Не то что в прошлом году. Говорят, милиция больше не будет штрафовать за горящие свечи на улице. Это все сталинская Конституция.
– М-да, люди верят, что теперь им никто не помешает молиться, потому что так написано в Конституции, – усмехнулся отец Петр. – Как же они ошибаются. Ох, отец дьякон, в какое интересное время мы живем. Смотрите, примечайте, что делается. Хвала Господу, что меня, старика, сподобил своими глазами все это увидеть. В такое время стоит жить!
– Ну как жить, батюшка? – опять скис дьякон. – Такая невозможная жизнь настала. Налоги на храмы и духовенство будто удавка, служителей алтаря ссылают и в лагерях морят.
– Да-да, сейчас только и жить, – повторил отец Петр. – Смотреть, как все это происходит. Самая интересная жизнь у нас пошла!
– Да что же в ней интересного? Страх один. Всего и всех боишься. Особенно доносов.
Отец Алексей слушал с легкой улыбкой под пышными усами. Хитрым взглядом он как будто поддерживал отца Петра.
– Вот и интересно. А вы, отец дьякон, думайте, шевелите мозгом, отчего да почему у нас такое. Как Господь нашу жизнь правит и прямит. Встряхивает нас, засидевшихся, трясет наше больное самолюбие, нашу гордость бессмысленную и безумную. Размачивает нашу заскорузлость, коростой на нас наросшую. Мы с вами как Лазари Четверодневные, смердящие в гробу. А Христос нас воскрешает… Общее воскресение прежде Твоей страсти уверя-а-я, – затянул отец Петр вполголоса праздничный тропарь, – из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже…
– Могу, конечно, ошибаться, – заговорил отец Алексей, отставив чашку с чаем, – но уверен, что Сталину скоро вслед за чистками партийных рядов понадобится массовое устрашение народа. Общее недовольство его политикой чрезвычайно усиливается. Колхозная война с крестьянством не оправдала себя – голод в стране ходит волнами.
– Зато в газетах у нас – райская жизнь, – продолжал шутить отец Петр. – Всего вдоволь, заводы дымят, колхозники рапортуют, стахановцы усердствуют, врагов искореняем. – Изменив голос, он проговорил с торжеством и пафосом, как радиодиктор: – Мы, советские граждане, окончательно установили, что и мы сами, и все в нашей стране – венец творения, а тот, кто в этом сомневается, повинен в государственной измене.
Отец Алексей рассмеялся, узнав цитату. Дьякон растерянно смотрел на обоих.
– Это из Диккенса, – объяснил ему отец Алексей. – Только вместо советских граждан у него, разумеется, британцы. Вот донесут на вас за такие цитаты, отец Петр, обвинят в антисоветской агитации, будете знать, как переиначивать великих писателей.
– На нас с вами и так клейма ставить негде, дорогой батюшка. Не то что противление, а даже недостаточное почитание этой власти расценивается как бунт… М-да-а. Когда-нибудь люди будут изумляться тому, как извращаются, выворачиваются наизнанку все человеческие понятия в государственном укладе, который установили в России большевики. Поверите ли, уже и комсомольская молодь начинает чувствовать фальшь всего этого.
– Комсомольцы? – заинтересовался дьякон. – Невероятно! У вас, отец Петр, есть неоспоримые факты?
– Пожалуйте, вот вам факт. Недавно у меня в гостях побывал сын некоего городского партработника, конечно же, комсомолец. Выспрашивал про муромское восстание лета восемнадцатого года. Каким-то образом он узнал, что мой сын-офицер участвовал в той давней истории. Догадываюсь, это директор краеведческого музея Богатов поведал ему. Ну так вот. Юноша осьмнадцати лет, заканчивающий ныне школу, очень настойчиво выпытывал у меня, правда ли, что участники восстания хотели вернуть царя и помещиков, как этому несчастному поколению вбивают в голову советская пресса и литература. Или же у муромских белогвардейцев были иные цели. Мне показалось, молодой человек выстраивает у себя в уме некую концепцию народно-демократической власти без нынешней партийной диктатуры… Я, разумеется, разочаровал юношу тем, что ничего толком не мог рассказать о муромском восстании. Вместо этого дал ему читать роман Сенкевича «Камо грядеши?» и отослал к директору музея. Это же он, Богатов, устанавливал в Муроме советскую власть.
– А что стало с вашим сыном, отче? – спросил дьякон.
– После провала того офицерского выступления его арестовали и заключили в концлагерь. Там он умер от тифа… Помяни Господь его душу! – Отец Петр задумался. – Недавно мне попался на глаза советский плакат, прославляющий сталинскую индустриализацию. Над красными дымящими заводами надпись: «Дым труб – дыханье Советской России». Так и чувствуется запах серы от этого страшноватого плаката. Извержение черного смрада из преисподней…
– Адские выхлопы, – согласно закивал дьякон.
– Надо вас развеселить, отцы, – подхватился карабановский священник. Он ушел в дом, пробыл там недолго и вернулся с набором открыток в картонке. – Ездил в Москву, побывал у брата Вадика. Он искусствовед, чего только в квартире не держит, включая всякую дрянь. Вот, отдал мне на сохранение. Хотел за эту «услугу» дать еще и денег, двадцать пять рублей, да я не взял. А ведь за тем к нему и ездил… милостыню просить, – развел руками священник.
– На четвертак могли бы купить ботинки ребенку, – не одобрил дьякон.
– Хм, занимательные советские святцы. – Отец Петр рассматривал открытки. – Ба, да тут сам первый советский кардинал Лейба Бронштейн! И теперешний враг номер два Бухарин!
Это был набор «Советский агитационный плакат», изданный в середине двадцатых годов. На одном плакате известный художник изобразил Троцкого в звездчатом нимбе – в образе большевистского Георгия Победоносца, поражающего копьем змея контрреволюции. На другом в карикатурном виде Кирилла и Мефодия запечатлен был Бухарин с советским экономистом Преображенским. Облаченные в святительские ризы, они держали перед собой свое знаменитое творение – книгу «Азбука коммунизма».
– И эти люди думают отучить наш народ от религии. – Быстро проглядев открытки, отец Петр поспешил сбыть их дьякону. Притом, однако, попросил: – А отдайте мне эту ерундовину, отец Алексей.







