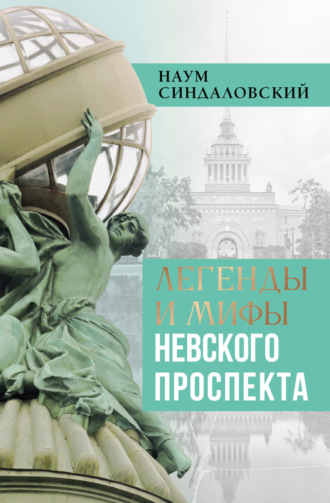
Наум Синдаловский
Легенды и мифы Невского проспекта
По первоначальному проекту арку Главного штаба должна была украшать скульптурная группа «Правосудие и Благочестие». Но Николай I будто бы сказал Росси: «Поставь здесь колесницу, которая будет везти Славу ко мне во дворец».
Согласно легенде, когда строительство арки подходило к концу, Николай I, посетив строительство, сказал архитектору: «Иностранные специалисты думают, что арка должна упасть». Росси поднялся на арку и, как утверждает легенда, оттуда сказал императору: «Если она упадет, я готов упасть вместе с нею».
По другому преданию, однажды в середине XIX века было обнаружено, что у лошадей на арке Главного штаба пропали хвосты. Затем они так же необъяснимо появились на своих местах. Но уже не бронзовые, а жестяные. Об этом даже писали в петербургских газетах того времени, на что, кстати, не появилось ни одного официального опровержения. В столице поговаривали, что хвосты просто украли.
В 1920-х годах арка Главного штаба официально называлась аркой Красной армии, но в петербургском фольклоре она известна как «Революционная подворотня». Из романтических фильмов и анекдотов о революции хорошо известно, что на штурм Зимнего дворца вооруженные матросы рванулись из-под нее. Два глубоких старика стоят под аркой Главного штаба и вспоминают, глядя на Дворцовую площадь: «А помнишь, вон там мы залегли с пулеметом?» – «А помнишь, вон там стояли наши с Путиловского?» – «А помнишь?» – «А помнишь?» – «Да, поторопились… поторопились…»
В новогоднюю ночь с 2000 на 2001 год произошло одно из самых мистических событий нового времени. Вновь заявила о себе петербургская аура, и без того опутанная тысячами невидимых таинственных нитей. Во время праздника встречи третьего тысячелетия на Дворцовой площади от случайного попадания петарды загорелись строительные леса вокруг колесницы Славы на арке Главного штаба. Пожар удалось ликвидировать, хотя потери от него, как утверждают специалисты, были немалые. Но это еще не все. Через две недели, в середине января 2001 года, на уличных рекламных щитах появились громадные постеры «Петербург встречает новое тысячелетие». На плакате художник изобразил ту самую колесницу Славы в ярком зареве пожара. От шока петербуржцы оправились только после более или менее внятного разъяснения властей. На самом деле, заявили они, это не зарево пожара, а сияние солнца, в лучах которого мчится символическая колесница Славы Петербурга. Да и сам плакат, оправдывалась городская администрация, был заготовлен заранее, еще осенью 2000 года, и выбран из нескольких вариантов. Он должен был предстать перед горожанами еще до Нового года, но в результате технологических сложностей появился только в январе. Конфликт вроде бы был исчерпан, но легко себе представить смятение обывателя, появись это мистическое предупреждение накануне пожара.
Сквозь арку Главного штаба открывается прекрасный вид на Дворцовую площадь с Александрийским столпом в центре на фоне фасада Зимнего дворца. Формирование площади продолжалось на протяжении всего XVIII и первой половины XIX веков. Оно началось строительством Зимнего дворца, продолжилось возведением здания Главного штаба и закончилось с появлением штаба Гвардейского корпуса.
Дворцовая площадь является местом проведения общегородских митингов и демонстраций. В советские времена посещение демонстраций было едва ли не обязательной повинностью.
Есть у революции начало!
Нет у революции конца!
Как нас эта площадь зае…
Как давно пора попить винца!
В народе Дворцовую площадь называют по-разному. Чаще всего – «Круг», «Площадка» или «Зимняя площадь», от Зимнего дворца. В повседневной жизни города Дворцовая площадь – место традиционных встреч, известное по фольклорному адресу «У столба», то есть в самом центре площади, у Александровской колонны.
Грандиозный памятник победителю Наполеона в Отечественной войне 1812–1814 года Александру I Александровская колонна – «Александрийский столп», или «Колонна победы», как его стали называть в разговорной речи, – был торжественно открыт 30 августа 1834 года в центре Дворцовой площади. Колонна сооружена по проекту архитектора Огюста Монферрана. Объектом городского фольклора Александровская колонна стала едва ли не сразу. Петр Андреевич Вяземский записал анекдот о графине Толстой, которая запретила своему кучеру возить ее мимо колонны. «Неровен час, – говорила она, – пожалуй, и свалится она с подножия своего». Как известно, колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте. Она держится исключительно с помощью точного расчета, ювелирной пригонки всех частей и собственного веса. Согласно одному из многочисленных преданий, в основание колонны был зарыт ящик отличного шампанского, – чтоб стояла вечно, не подвергаясь ни осадке, ни наклону.
Слухи о том, что Александровская колонна может упасть, были так популярны в Петербурге, что опровергнуть их решил и Монферран. Каждое утро он на виду у всех демонстративно прогуливался у основания колонны вместе со своей собачкой. Говорят, проделывал он это до самой смерти.
Не устраивала некоторых петербуржцев и скульптурная аллегория – фигура ангела, венчающая гранитный обелиск. Известный в пушкинском Петербурге салонный краснобай Д.Е. Цицианов, возраст которого к тому времени приближался к 90 годам, будто бы говорил: «Какую глупую статую поставили – ангела с крыльями; надобно представить Александра в полной форме и держит Наполеошку за волосы, а он только ножками дрыгает».
В 1840-х годах в Петербурге был хорошо известен каламбур, авторство которого приписывали профессору Санкт-Петербургского университета В.С. Порошину: «Столб столба столбу». Кто был кем в этом маленьком фразеологическом шедевре, петербуржцам рассказывать было не надо. Согласно преданию, придать лицу ангела сходство с лицом императора Александра I, одновременно указав скульптору Б.И. Орловскому, что морда змеи, попранной крестом ангела, должна походить на лицо Наполеона, приказал царствующий император Николай I. Столб Николая I Александру I. И это не единственная солдатская ассоциация, владевшая умами либеральной общественности эпохи Николая I:
В России дышит все военным ремеслом:
И ангел делает на караул крестом.
Военный образ неподкупного караульного проглядывается и в соответствующих поговорках: «Стоишь, как столп Александрийский» или «Незыблемей Александрийского столпа».
Сравнительно недавно, в мае 1989 года, в Петербурге был устроен блестящий розыгрыш, придуманный и проведенный некой молодежной инициативной группой. Собирались подписи против переноса Александровской колонны с Дворцовой площади в Александровский сад. Колонна якобы мешала проведению парадов и демонстраций. Причем, как потом выяснилось, был заготовлен даже специальный приз тому, кто разоблачит эту талантливую мистификацию. Список подписантов, озабоченных судьбой памятника, рос и рос. Приз так и остался невостребованным.
Еще через несколько лет петербуржцы услышали по радио ошеломляющую новость. Как выяснилось, Петербургу не грозит топливный кризис. Раскрыта еще одна неизвестная страница петербургской истории, обнаружены документы, подтверждающие давние догадки краеведов: под нами находится подземное море нефти. Наиболее близко к поверхности земли это нефтехранилище подходит в районе Дворцовой площади. Археологам это было известно давно. Именно ими и было рекомендовано использовать строившуюся в то время колонну в качестве многотонной затычки, способной удержать рвущийся из-под земли фонтан. В свете этого замечательного открытия становится понятно, почему колонна не врыта в землю и не укреплена на специальном фундаменте, что, казалось бы, должно было обеспечить ей дополнительную устойчивость, но стоит свободно на собственном основании и удерживается в равновесии с помощью собственного веса.
На дворе было 1 апреля. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» – сказал поэт, и это чистая правда.
К Александровской колонне приходят молодожены. Жених берет любимую на руки и проносит ее вокруг колонны. Один раз. Два. Сколько раз, верят они, сумеет он с невестой на руках обойти колонну, столько детей и родят они в счастливом совместном браке.
Существует предание, что после революции, борясь со всем, что было связано с «проклятым» прошлым, большевики решили убрать и Александровскую колонну. Все было уже готово для сноса, но «нашлись люди, которые доказали расчетами, что во время падения колонны сила удара о землю будет такой мощной, что все вблизи стоящие здания будут разрушены». От безумной идеи отказались.
Но судьба ангела будто бы была все-таки решена. На его месте якобы собирались установить «фигуру рабочего или крестьянина в ампирной одежде», или монумент В.И. Ленину, пьедесталом которому и должна была служить Александровская колонна. Некоторое время на ней не было ничего. Но когда Дворцовую площадь начали готовить к съемкам массовых сцен для кинофильма «Октябрь», Сергей Эйзенштейн потребовал вернуть фигуру ангела, хотя бы на время съемок. Фильм сняли. Об ангеле будто бы забыли. С тех пор он по-прежнему стоит на своем историческом месте.
Ангел над площадью парадов и демонстраций не давал покоя кремлевским чиновникам до смерти Сталина. Говорят, в 1952 году из Москвы пришло «совершенно секретное» распоряжение «в течение месяца заменить ангела с крестом на бюст товарища Сталина». Что помешало реализации этой акции, то ли сложность исполнения, то ли смерть «вождя всемирного пролетариата», сказать трудно.
Ныне существующий Зимний дворец – это пятая по счету зимняя резиденция русских императоров. Первый Зимний дворец представлял собой «маленький домик голландской архитектуры», он был построен в 1711 году на берегу Невы. Второй Зимний дворец широко известен тем, что в одной из его комнат в 1725 году скончался основатель Петербурга Петр I, а по другой, малоизвестной легенде, – и императрица Екатерина I. Примерно на том же месте находился и третий Зимний дворец, или «Лейб-компанский дом», как иногда называли его в Петербурге. Четвертый, деревянный дворец был временным. Он предназначался для проживания царской семьи на время строительства пятого, постоянного Зимнего дворца и находился на Невском проспекте.
Известный нам Зимний дворец строился в 1754–1762 годах по проекту Б.Ф. Растрелли. Дворец является ярким образцом пышного барокко – архитектурного стиля, который господствовал в Петербурге в середине XVIII века. В апреле 1762 года в Зимний дворец въехал Петр III. Площадь перед дворцом была еще завалена мусором, загромождена сараями и строительными материалами. Петра III раздражал вид захламленной площади. И тогда, как рассказывают предания, он отдал приказ, разрешающий жителям Петербурга брать все, что их могло привлечь в кучах строительного хлама. Как утверждает городской фольклор, через несколько часов площадь была очищена. Говорят, это любопытное зрелище веселило императора.
Сейчас мало кто помнит, что фасады Зимнего дворца не всегда были окрашены в привычные нам светлые тона. Перед Первой мировой войной Зимний дворец приобрел неожиданно красно-коричневый цвет, который чуть ли не два десятилетия поражал петербуржцев своей мрачностью. Одна из городских легенд объясняет этот курьез странным подарком, преподнесенным германским императором русскому царю. Будто бы Вильгельм отправил Николаю II для нужд судостроения целый пульман сурика, который по каким-то причинам был забракован чиновниками Морского ведомства. Долгое время вагон с краской даже не разгружали, пока какому-то остроумцу не пришла в голову мысль использовать сурик для окраски фасадов. Первой жертвой этой идеи оказался Зимний дворец.
Городской фольклор насчитывает одиннадцать подземных ходов, которые якобы ведут из Зимнего дворца к различным точкам города. Среди них будто бы есть подземные ходы, ведущие в Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Капеллу. Есть легенда о том, что заговорщики 1801 года проникли в Михайловский замок для убийства Павла I, воспользовавшись одним из таких ходов.
С 1917 по 1945 год в части помещений Зимнего дворца был развернут Музей революции. В первые годы советской власти здесь располагались различные учреждения, в том числе кинотеатр, зал для театральных представлений, общежитие и так далее. Одновременно в 1922 году большая часть дворца была передана Эрмитажу. Музейные экспозиции развернулись во всех его помещениях, включая бывшие личные покои царской семьи. Однако тени бывших хозяев дворца не покидают его. Музейные работники рассказывают, что по вечерам, когда все затихает, в темных галереях среди старинных шпалер и гобеленов можно увидеть призрак последнего царя, неслышно ступающего по музейным паркетам.
Квартал от Большой Морской улицы до набережной реки Мойки по нечетной стороне Невского проспекта занят домом № 15, построенным в 1760-х годах для генерал-полицмейстера Петербурга Н.И. Чичерина. К сожалению, ни точная дата строительства, ни автор этого замечательного сооружения не известны. Четырехэтажное здание украшено двухъярусными колонными портиками в центре и по бокам скругленных фасадов. Его обиходные названия: «Дом с колоннами», «Дом Чичерина», «Дом полицмейстера».
Чичерин – это русифицированный вариант итальянской фамилии Чичерини, один из представителей которой вместе со свитой племянницы византийского императора Константина XI Софьи Палеолог, просватанной за великого князя Ивана III, в 1472 году прибыл в Москву. От него и пошел род русских Чичериных, верой и правдой служивших своей новой родине.
Николай Иванович Чичерин был одним из самых грамотных и способных петербургских генерал-полицмейстеров. Он принимал деятельное участие в работе Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга, заботился о чистоте и порядке на улицах, о качестве съестных припасов и многом другом, что вызывало доверие к нему со стороны Екатерины II и уважение обывателей. Однако это не уберегло Николая Ивановича от гнева императрицы, обвинившей генерал-губернатора в гибели петербуржцев во время наводнения, случившегося 10 сентября 1777 года. По мнению императрицы, именно он должен был заботиться о защите петербуржцев от разгула стихии. Вызванного во дворец генерал-губернатора она встретила насмешливым поклоном в пояс: «Спасибо, Николай Иванович! по твоей милости погибло несколько тысяч моих подданных». Чичерин понял, что императрица имела в виду не естественные причины несчастья, обрушившегося на столицу, но нераспорядительность полиции, «много способствовавшей широким масштабам бедствия». Легенда утверждает, что на следующий день Чичерина разбил паралич «и он дня через два умер». Хотя на самом деле он был всего лишь отстранен от должности и отправлен в отставку. А умер Николай Иванович только через пять лет, в 1782 году, в своем собственном доме на Невском проспекте. Тем не менее в Петербурге Николая Ивановича Чичерина называли «последней жертвой наводнения».
Среди петербуржцев, имена которых неотъемлемо вошли в состав городской фразеологии, был корабельный подрядчик купец 1-й гильдии Абрам Израилевич Перетц. В начале XIX века он стал одним из владельцев дома № 15. В столице его хорошо знали. Газеты писали, что это был «человек ученый, знал разные иностранные языки, одевался и жил по гражданским обычаям». Наряду с судостроением предприимчивый купец попутно занимался торговлей солью. В этом деле он преуспел и вскоре стал едва ли не единственным крупным поставщиком соли к царскому двору. В петербургский городской фольклор Перетц вошел широко известным в свое время каламбуром, обыгрывавшим его экзотическую фамилию: «Где соль, там и Перетц».
Перетц имел большие связи в высших кругах русского общества. Он был женат на дочери известного ученого и мецената, управляющего светлейшего князя Г.А. Потемкина, раввина Иошуи Цейтлина. Но особенно сблизился Перетц с крупнейшим общественным и государственным деятелем времени Александра I Михаилом Михайловичем Сперанским – одним из главных инициаторов и проводников общественных и политических реформ императора в первые годы его царствования, которые Пушкин охарактеризовал как «Дней Александровых прекрасное начало». Перетца даже называли «еврейским помощником Сперанского». И когда в 1802 году по инициативе Александра I в Петербурге был образован Комитет для составления законодательства о евреях, одним из немногих евреев, получивших приглашение участвовать в заседаниях Комитета, был Абрам Израилевич Перетц.
Вместе с делегатами от еврейских общин вновь приобретенных западных земель в столицу прибыли их семьи и еврейская прислуга. Так в Петербурге возникла первая еврейская община, которая собиралась в доме Перетца на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы. Тогда же, в 1802 году, первые петербургские евреи приобрели участок под еврейское кладбище. Он находился в лютеранской части старинного Волкова кладбища. Была заведена первая общинная книга. С этого момента можно считать, что в Санкт-Петербурге де-факто появились первые евреи, хотя известно, что отдельные представители этого народа жили в Петербурге и честно служили своему Отечеству еще при Петре I.
К 1826 году количество евреев в Петербурге достигло 248 человек. Начали прорастать ростки еврейского городского фольклора: «Что был раньше Петербург? Пустыня. Вот теперь Бердичев». Надо сказать, что в сознании евреев Бердичев имел особое значение. Этот город в Житомирской области Украины долгое время считался самым еврейским городом в мире. Например, в 1897 году евреи составляли 80 % от всего его населения. В еврейском фольклоре репутация Бердичева была настолько высокой, что его статус сравнивался исключительно со статусом столичных городов.
В 1821 году на третьем этаже этого дома поселился Н.И. Греч, считавшийся, благодаря сотрудничеству с Фаддеем Булгариным, литературным агентом пресловутого Третьего отделения. В литературном Петербурге иначе как «братья-разбойники» их не называли. Происхождение этого коллективного прозвища фольклорная традиция связывает с Пушкиным. Будто бы однажды на одном обеде, увидев цензора В.Н. Семенова, сидящего между Гречем и Булгариным, Пушкин воскликнул: «Ты, Семенов, точно Христос на Голгофе». Известно, что, согласно библейской версии, Христос был распят вместе с двумя разбойниками и его крест находился как раз посередине.
Другая их кличка среди петербургских литераторов была «Грачи-разбойники». Николай Иванович Греч в течение десяти лет служил в Петербургском цензурном комитете, а Булгарин, до 1825 года исповедовавший весьма демократические либеральные взгляды, после восстания декабристов занял откровенно верноподданническую охранительную позицию и заслужил в Петербурге славу беспринципного литературного осведомителя Третьего отделения.
Редакция «Северной пчелы» находилась на Мойке, в доме № 92, принадлежавшем Гречу. Здесь же размещалась и типография. Дом был открытым для всего, как тогда говорили, театрального, художественного и литературного мира Петербурга. Особенно многолюдны были «четверги», устраиваемые Гречем. В историю петербургской культуры дом вошел под именем «Гречев дом».
Николай Иванович Греч, в отличие от своего соиздателя, никогда не опускался до откровенного «литературного разбоя». Со многими собратьями по перу, в том числе с Пушкиным, он оставался корректен и сумел сохранить дружеские отношения.
Со стороны реки Мойки к дому Чичерина примыкал еще один жилой корпус. В 1858 году участок со всеми тремя домами Чичерина был приобретен Степаном Петровичем и Петром Степановичем Елисеевыми, родственниками владельцев магазинов колониальных товаров в Москве, Петербурге и других городах России. В 1859–1860 годах корпус со стороны Мойки был капитально перестроен архитектором Н.П. Гребенкой. Тогда же он получил собственный адрес: набережная реки Мойки, 59.
После революции Елисеевы покинули Россию, и дом некоторое время оставался бесхозным. В 1919 году в нем, по инициативе Максима Горького, организуется знаменитый Дом искусств, вошедший в литературную историю под аббревиатурой ДИСК. В ДИСКе жили и работали так называемые Обдиски – то есть «ОБитатели Дома ИСКусств». Среди них были Осип Мандельштам, Мариэтта Шагинян, Александр Грин, Владимир Пяст, Ольга Форш, Николай Гумилев и многие другие члены так называемой писательской коммуны. Несмотря на трудности быта, Дом искусств в то время стал признанным центром культурной жизни Петрограда. Здесь проводились литературные вечера, художественные выставки, устраивались лекции и концерты, встречи с зарубежными и московскими гостями. Здесь бывали Владимир Маяковский, Максим Горький, Александр Блок, Корней Чуковский и многие другие видные деятели советской культуры.
Время было голодное. По воспоминаниям очевидцев, обитатели Дома искусств – писатели и художники, сценаристы и режиссеры – после очередного получения «особо экзотического пайка, состоявшего из лаврового листа и душистого перца, с голодным блеском в глазах бросались выстукивать коридоры», пытаясь найти пресловутое «елисеевское серебро», по легенде, замурованное в его стены бывшими владельцами, сбежавшими за границу. Голод был настолько силен, что о еде думали и говорили постоянно. Художник Анненков вспоминает, как Михаил Зощенко однажды сказал, что «жареные цыплята научились, по-видимому, здорово летать, так, что их теперь нигде не поймаешь».
Многие обитатели ДИСКа не избежали пристального внимания петербургского городского фольклора. Среди них одно из первых мест занимает Осип Эмильевич Мандельштам. Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве. В Петербург семья Мандельштамов переехала в 1897 году. Осип получил образование в Тенишевском училище. К 1911 году семья начала разоряться. Для того чтобы обойти квоту на иудеев при поступлении в Петербургский университет, Мандельштам крестился.
С детских лет Мандельштам увлекался поэзией. Начал печататься с 1910 года, а в 1913 году вышла первая книга его стихотворений «Камень». С этих пор Мандельштам прочно вошел в обойму лучших поэтов своего времени. Влияние его поэтического творчества на поэзию было так велико, что в то время даже родился нелицеприятный термин, обозначавший неизбежное в подобных ситуациях эпигонство: «Мандельштамп».
После революции Мандельштам бедствовал, стихи дохода не приносили, жить было негде, он скитался по друзьям и знакомым. У них же занимал деньги, без всякой надежды на возврат. В конце 1920-х годов с помощью Горького он сумел получить комнату в знаменитом ДИСКе. Жить было непросто. Тем более человеку с таким сложным, независимым и гордым характером, как у Мандельштама.
По утверждению многих биографов поэта, он был «одиноким скитальцем», «блуждающим светилом», мало подходящим для совместного проживания с людьми. Его ценили за вклад в литературу и иронизировали, а то и просто издевались над его внешностью. Он был маленького роста, и его называли: «Птица божья», «Гордая дама», «Мраморная муха». Судя по мемуарной литературе, необычный облик Мандельштама становился притчей во языцех всех, кто с ним так или иначе соприкасался. Его имя произносили по поводу и без повода. Например, поэт Ходасевич, вспоминая жизнь в ДИСКе, пишет о комнате Мандельштама: «Обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам». О нем говорили: «Он даже чечевичную кашу ел так, будто вкушал божественный нектар». А по остроумному замечанию Максимилиана Волошина, «Мандельштам был нелеп, как настоящий поэт».
В литературной среде была известна поговорка о нем: «Голову забросив, шествует Иосиф». Это его родовое отличие вошло в воспоминания и письма многих современников, сохранилось в стихах, воспоминаниях и в мемуарной литературе.
Вдова Мандельштама Надежда Яковлевна вспоминает, как во время эвакуации в Ташкенте она встретила Валентина Катаева, хорошо знавшего Мандельштама. Катаев рассказывал, как, подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и «сразу вспомнил Мандельштама: “Как он держит голову – совсем как Осип Эмильевич”». Некоторым казалось, что так неестественно держать голову можно только благодаря твердым высоким воротничкам, которые любил носить Мандельштам, и только потом выяснилось, что привычка «с аристократическим высокомерием задирать голову» была наследственной и досталась ему от предков.
Ко всему сказанному надо добавить, что Мандельштам с детства страдал зубами и, когда улыбался или разговаривал, обнажал три или четыре золотые коронки. Одним из его прозвищ было «Золотозубый».
Из-за сложного характера Мандельштама, если верить фольклору, произошел и его первый арест. Однажды писатель С.П. Бородин, будучи у Мандельштамов, устроил скандал и ударил жену поэта. Мандельштам тут же обратился в товарищеский суд писателей, председателем которого был Алексей Толстой. Суд решил примирить своих коллег и постановил, что «виноваты обе стороны». Однако это решительно не понравилось Мандельштаму, и он ударил Толстого по щеке, заявив при этом, что «наказал палача, выдавшего ордер на избиение его жены». Толстой взорвался и начал кричать, что «закроет перед Мандельштамом все издательства, не даст ему печататься и вышлет его из Москвы». В то время Мандельштамы жили то в Петрограде, то в Москве. Слова Толстого не были пустой угрозой, связанной с эмоциональным всплеском. Он тут же выехал в Москву жаловаться Горькому. И Горький, если верить фольклору, поддержал Толстого: «Мы ему покажем, как бить русских писателей», – будто бы сказал он. Это якобы и послужило причиной первого ареста Мандельштама. На этот раз все обошлось простой ссылкой. К такому «гуманному» роду репрессий против интеллигенции все уже давно привыкли.
Подлинные обстоятельства смерти Мандельштама неизвестны. По официальным данным, он умер от паралича сердца 27 декабря 1938 года в одном из пересыльных лагерей Дальнего Востока. Сохранилось множество легенд о последних днях поэта. Согласно одной из них, Мандельштама видели в партии заключенных, отправлявшихся на Колыму. Но на пути туда он будто бы умер, и тело его было брошено в океан. По другой легенде, его расстреляли при попытке к бегству, по третьей – забили насмерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба, по четвертой – он повесился, «испугавшись письма Жданова, которое каким-то образом дошло до лагерей». О каком именно письме Жданова идет речь, неизвестно. Еще по одной легенде, Мандельштам вообще не был отправлен на каторгу. Он так и остался жить в Воронеже, пока туда не пришли немцы. Они-то будто бы и расстреляли поэта. Кому было удобно свалить вину за гибель поэта на немцев, остается только догадываться.
Надо сказать, что сквозь все лагерные легенды о Мандельштаме красной нитью проходит один знаменательный сюжет. Все они рассказывают о нем как о «семидесятилетнем безумном старике с котелком для каши, когда-то писавшем стихи, и потому прозванном “Поэтом”». В год трагической гибели поэту Мандельштаму было всего 47 лет.
На 8-й линии Васильевского острова в шестиэтажном доме № 31, построенном в 1910–1911 годах по проекту архитектора В.И. Ван-дер-Гюхта, в 1920–1930-х годах жил брат Осипа Мандельштама – Александр, у которого «в каморке над черной лестницей» поэт неоднократно останавливался, приезжая в Ленинград. Здесь он написал одно из лучших своих стихотворений, посвященное своему любимому городу. Измученный, издерганный и загнанный в угол, предчувствуя скорый конец, он признается в любви к единственной своей родине – Петербургу – Петрограду – Ленинграду.
Я вернулся в мой город, знакомый
до слез,
До прожилок, до детских
припухлых желез.
В 1991 году на фасаде дома установлена мемориальная доска с памятным текстом: «В этом доме в декабре 1930 года поэт Осип Мандельштам написал “Я вернулся в мой город, знакомый до слез…”».
Постоянным обитателем ДИСКа был замечательный петербургский писатель Александр Степанович Грин.
Отцом Грина был ссыльный поляк Стефан Гриневский, шляхтич из Дисненского уезда Виленской губернии Российской империи. За участие в январском восстании 1863 года он в 20-летнем возрасте был сослан в Томскую губернию. Затем ему удалось перебраться в Вятку. Там и родился будущий писатель.
Биография Александра Грина полна мистических тайн и фантастических загадок. В значительной степени это связано с тем, что он состоял членом партии эсеров и преследовался за антиправительственную агитацию. Впервые в Петербург Грин приехал в 1905 году, нелегально, хотя охранка о нем хорошо знала и тщательно следила за его передвижениями по стране. В их отчетах он числился под кличкой «Невский». Это была вторая часть его подлинной фамилии. Первая ее часть – Грин, которая на самом деле была гимназическим прозвищем будущего писателя, впоследствии превратилась в авторский псевдоним.
В 1906 году Грина арестовали и сослали в Тобольскую губернию. Оттуда он сбежал и вернулся в Петербург, но в 1910 году был вновь арестован и на этот раз смог вернуться в столицу только в 1912 году.
В Петербурге его познакомили с Куприным, благодаря которому Грин вошел в литературные и издательские круги столицы. После революции жил в Доме искусств на Мойке. Виктор Шкловский вспоминает, что высокий, изможденный голодом, мрачный и тихий Грин был похож на «каторжника в середине срока». Здесь он начал активно писать и печататься. Здесь же родились и первые легенды о Грине. Так, по одной из них, он был сослан на каторгу в Сибирь не за свою революционную деятельность, а за то, что убил жену.
Заманчивый и великолепный фантастический мир, созданный им в повестях и рассказах, взбудоражил общественное мнение. Вскоре оно разделилось. Одни признавали его необычный творческий дар, другие говорили, что Грин никакой не писатель, а обыкновенный уголовник. Будто бы однажды ему удалось украсть сундук, набитый старинными английскими рукописями. Хорошо зная иностранные языки, он постепенно извлекал тексты из таинственного сундука, переводил их и выдавал за свои произведения.
Как бы то ни было, все единодушно признавали, что Грин писатель глубоко петербургский. Его лучшие произведения: «Алые паруса», «Крысолов», «Корабли в Лиссе» и другие – могли быть написаны только в этом городе. И действительно, в волшебных городах с загадочными названиями Лисс и Зурбаган, созданных его творческим воображением, легко улавливается неповторимый аромат петербургской атмосферы, запах гранитных набережных Невы и близкое дыхание Финского залива. Это была выдуманная им необыкновенная страна «Гринландия», жить в которой стремились многие поколения его благодарных читателей. Неслучайно в Петербурге до сих пор живет весенняя примета. Юные выпускницы петербургских школ, беззаветно веруя в свое недалекое счастливое будущее, связывают свои судьбы и свои надежды с гриновскими алыми парусами, которые им удается увидеть в утренних грезах. В том числе и потому, что свято верят в романтическую легенду, будто прообразом прекрасной Ассоль стала жена Александра Степановича Грина – Нина Николаевна.


