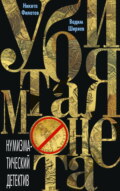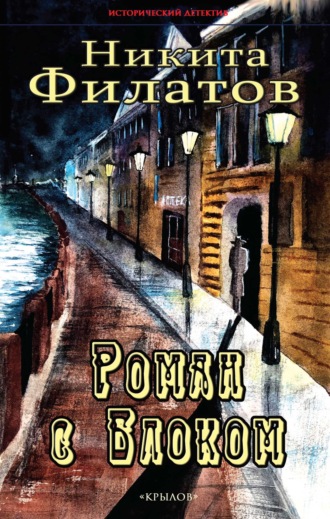
Никита Филатов
Роман с Блоком
Глава первая
1917 год
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..
Александр Блок
От покоев Зимнего дворца до казематов Петропавловской крепости всегда и во всех смыслах было рукой подать. Сначала по набережной, потом через Троицкий мост…
Весной и летом первого революционного года и без того капризная природа вела себя в Петрограде почти так же непредсказуемо, как и люди. Например, в середине мая вдруг, ни с того ни с сего, пошел снег. Настоящий, густой, сохранившийся даже какое-то время на мостовых. Потом тяжелою волною накатила долгая жара, которую сменили грозы, шквальный ветер и подъем воды Финского залива.
Сегодня, впрочем, погода стояла по-настоящему летняя, а с утра было солнечно и тепло, что в июле случатся изредка даже на берегах Невы. По такому случаю Николай Константинович Муравьев даже не стал вызывать казенный автомобиль.
– Александр Александрович, время есть… – посмотрел он на циферблат массивных золотых часов, которые вытянул из кармана жилета. – Может быть, по пути пообедаем?
Николаю Константиновичу не исполнилось еще пятидесяти, а пенсне, аккуратно подстриженные усы и бородка делали его поразительно похожим на писателя Чехова. До революции Муравьев был известным московским адвокатом и много выступал на политических процессах. Теперь он стал заместителем министра юстиции и председателем Чрезвычайной следственной комиссии, которую создало Временное правительство. В состав этого органа, который полностью именовался «Чрезвычайной следственной комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств», включены были не только военные и гражданские прокуроры в солидных чинах. Кроме них в Комиссии состояли еще и философы с именем, правоведы, историки и даже профессиональные революционеры – вроде члена ЦК партии эсеров Зензинова или видного социал-демократа Соколова.
– Да, пожалуй, с большим удовольствием, – кивнул Александр Блок.
Он был всего на десять лет младше спутника, однако выглядел значительно моложе – высокий, стройный, в обтягивающей защитной гимнастерке, в галифе и до блеска начищенных сапогах.
– Вот и славно, вот и славно… а то когда еще сегодня доведется?
После некоторых проволочек, связанных с оформлением перевода в тыл из действующей армии, Блок был официально зачислен в Чрезвычайную следственную комиссию на должность редактора стенографических отчетов. Комиссия рассматривала деятельность бывших царских сановников, принадлежавших по «Табели о рангах» к первым трем классам – при этом на царя, его семью, а также на высших иерархов православной церкви эти полномочия не распространялись. В общей сложности было заведено примерно семьсот дел – под следствие попали четыре российских премьер-министра и почти два десятка министров, часть из которых была взята под стражу. Показания членам Комиссии давали товарищи министров и сенаторы, полицейские, жандармские чины, генералы, общественные деятели – от черносотенных депутатов Государственной думы до руководителя партии большевиков Владимира Ульянова (Ленина). Дело оказалось живым, интересным, однако работа с материалами допросов считалась секретной и оглашению не подлежала.
Поэт, конечно же, не голодал. Прислуга сделала запасы разных круп и продовольствия, так что питался дома Блок вполне прилично – ел много мяса, яиц, хлеба, деревенского масла. Зато на службе для приличного обеда зачастую просто не находилось времени.
Иногда Блоку и другим сотрудникам Комиссии, в перерывах между беседами и допросами, удавалось под каким-нибудь благовидным предлогом снять «пробу» с того небогатого, но достаточно сытного рациона, которым кормили арестантов. Однако чаще всего целый день приходилось ограничивать себя чаем с булками и вареньем, который бывалые следователи и молодые секретари завели у себя прямо на работе – в одном из кабинетов Зимнего дворца.

Блок был официально зачислен в Чрезвычайную следственную комиссию
– Рекомендую вот сюда…
– Благодарю вас, Николай Константинович.
Небольшой ресторанчик, в который они заглянули, с некоторых пор располагался на Мойке, по соседству с последней квартирой Александра Сергеевича Пушкина, и был назван по лицейскому прозвищу Ивана Пущина, близкого друга поэта, которому когда-то принадлежал этот дом.
– Проходите, присаживайтесь, господа!
Первые месяцы после падения самодержавия никого из жителей столицы еще не удивляло, что по дороге куда-нибудь можно вот так, запросто, зайти в одно из многочисленных кухонных или питейных заведений, сделать выбор и вкусно поесть.
Для делового завтрака было уже поздновато, а настоящее время обеда еще не пришло. Поэтому публики было немного: инженер министерства путей сообщения с дамой, пожилой иностранец в клетчатом пиджаке, похожий на журналиста или на шпиона, и артиллерийский штабс-капитан с Георгиевским крестом и Владимиром четвертой степени.
Инженер и его спутница вполголоса выясняли между собой отношения – продолжалось это, видимо, уже достаточно давно. Иностранец одну за другой перелистывал толстую пачку российских газет, которых теперь выходило великое множество. Офицер у окна пил из чайника запрещенный коньяк, то и дело подливая его в стакан с подстаканником и фаянсовым блюдцем. При этом он каждый раз для чего-то перемешивал коньяк тонкой серебряной ложечкой. Муравьев и Блок переглянулись – суровость нынешнего «сухого закона», подобно любому другому уложению в российской истории, была уравновешена его поголовным неисполнением…
Николай Константинович попросил проводить их подальше, к свободному столику в глубине зала – как и все гражданские мужчины, он немного побаивался фронтовых офицеров.
– Александр Александрович, сколько времени вы провели на войне? – поинтересовался Муравьев, когда официант, после короткого обсуждения, принял заказ и отошел на кухню.
Цены в ресторане, конечно же, отличались от довоенных – как, впрочем, и повсеместно. Насчет «продуктов» в Петрограде вообще становилось все хуже – белый хлеб почти пропал, фунт мяса стоил по два рубля сорок копеек, обыкновенная курица – семь рублей… Дрова также сильно подорожали.
– Двести восемь дней…
– Вот как?
– Я почти семь месяцев там валял дурака, считаю, что довольно.
– Ну, во всяком случае, здесь вы нужнее для новой России.
Подобная трактовка Николаем Константиновичем его по сути самовольного невозвращения на место службы поэта вполне устраивала – тем более что со времени окончания отпуска и до начала мая, когда все-таки был подписан приказ об откомандировании в состав Чрезвычайной комиссии, по законам военного времени Блока запросто могли привлечь к ответственности как дезертира.
– Между прочим, зачем вы вообще отправились на фронт?
Блок задумался и ответил:
– Чтобы быть честным перед собой и своими стихами.
– Простите? – переспросил собеседник.
В повседневном общении со знаменитым поэтом, который оказался у него в подчинении, Муравьев никогда не позволял себе ни высокомерного снисхождения, ни особенной требовательности. По убеждениям он считал себя «беспартийным марксистом», и никогда не пытался обратить Блока в свою веру – нужды в этом не было, так как политические взгляды поэта вполне соответствовали задачам и целям Комиссии. На городских выборах Александр Блок, после некоторых размышлений, из семи предлагавшихся списков подал голос за социалистический блок – то есть за эсеров с меньшевиками. И был очень рад, когда выяснилось потом, что швейцар, кухарка, многие рабочие тоже подали голоса именно за этот список…
Именно поэтому Блок ответил откровенно:
– Понимаете ли, Николай Константинович… Я ведь встретил войну всего лишь как очередную нелепость и без того нелепой жизни. Я любил Германию, немецкие университеты, поэтов, музыкантов, философов… и мне трудно было понять, почему народы должны сражаться в угоду своим властителям. Но, с другой стороны, людям чрезмерно впечатлительным, вроде художников и поэтов, показалось в начале войны, что она, образно говоря, очистит воздух, но казалось минуту, не более! В нашей русской поэзии тогда неожиданным образом обнаружился полный упадок – какая-то слабость соков, какая-то скудость энергии… Литературная атмосфера так и осталась в те дни, несмотря ни на что, неподвижной и затхлой…
Появился с подносом официант, так что собеседники почти сразу же приступили к закускам.
– Прочитал вчера ваш отчет о допросах за прошлый месяц… – сообщил Муравьев, положив себе второй кусок холодной осетрины. – А что вы, Александр Александрович, сами думаете по поводу тех, от кого нам приходится получать показания?
Блок помедлил с ответом.
– Полагаю, не следует преувеличивать персональное значение каждого из них.
Для чего, например, и за что была арестована фрейлина Анна Вырубова? При первом знакомстве с нею, которое состоялось в камере Петропавловской крепости, секретарь Комиссии увидел пышную даму за тридцать, которая стояла у кровати, подперев костылем изуродованное в железнодорожной катастрофе плечо. Она заведомо ничего важного сообщить не могла и показалась Блоку «блаженной потаскушкой и дурой». Но за это ведь, кажется, не отправляют в тюрьму? А что, если она и вправду – всего лишь наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы? И не более чем фонограф для слов и внушений порочного «старца»?
Но, с другой стороны, – был еще председатель Совета министров Горемыкин, породистый, очень хитрый старик, который очень многое знает и не открывает. Или следующий российский премьер-министр Штюрмер – довольно мерзкая, большая и тоскливая развалина. Этого «старикашку на веревочке», как его однажды обозвал Распутин, сменил борец против «германского засилия во власти» Трепов, на долю которого выпала непосильная задача – задать государственному кораблю твердый курс в ту минуту, кода буря уже началась. И который, конечно же, ничего не успел изменить за сорок восемь дней своего «премьерства». В результате Трепов пал, поверженный Протопоповым, которому удалось уловить его на предложении отступного все тому же Распутину, чтобы последний не мешался в государственные дела…
Сам же Протопопов, который «подсидел» предшественника, оказался, по впечатлениям Блока, человеком талантливым и при этом ничтожным. Монархистом, которому с первых шагов удалось возбудить к себе нелюбовь и презрение общественных и правительственных кругов, и который принес к самому подножию трона весь истерический клубок своих личных чувств и мыслей…
Перед внутренним взором поэта стремительным калейдоскопом промелькнула галерея персонажей, с которыми довелось ему пообщаться за время работы в Комиссии.
Старый аристократ князь Голицын, последний премьер-министр, давно стоявший к моменту своего назначения вдали от всяческих государственных дел… Последний военный министр Беляев – в сущности, очень порядочный человек, сыгравший большую роль в февральских событиях… Или генерал-адъютант, адмирал Нилов, старый морской волк и пьяница, грубость и прямота которого вызывали почти симпатию. Он оказался последним, кто откровенно говорил с царем о роковой роли «старца» Распутина, но в результате, получив отпор, смирился, и потом повторял лишь одно: «Будет революция, нас всех повесят, а на каком фонаре, все равно». Были допрошены также барон Фредерикс, многолетний министр императорского двора, временами, казалось, совсем выживающий из ума. И его зять, дворцовый комендант генерал-майор Воейков – ничтожное существо, о котором Блок в своих заметках написал, что этот человек «убог умом и безличен, как и его язык, приправленный иногда лишь хвастливыми и пошловатыми гвардейскими словечками…». Единственное, что мог Воейков сообщить следователям, – это ряд анекдотов и фактов, интересных в бытовом отношении; однако обобщить что бы то ни было он оказался не способен.
Редактировать их показания поэту было противно и интересно одновременно. Придворные помои, гнусные сенсации, жизнь подонков самого высшего общества во всей ее наготе…
Большинство из тех, кто представал перед Чрезвычайной следственной комиссией, изображали дело так, будто в «политику» не вмешивались. Когда председатель Комиссии спрашивал, что именно они понимают под политикой, все отвечали, что «политика» была делом императора, императрицы и… Григория Распутина. При этом сам пресловутый «старец» не мог быть привлечен к следствию по причине того, что был убит еще в минувшем декабре.
– Это просто какой-то печальный паноптикум… – Блок промокнул салфеткой рот. – Впрочем, я теперь вижу их только в горе и унижении. Но я не видел их до революции, в недосягаемости положения, в блеске власти. К ним надо относиться с величайшей пристальностью, в сознании страшной ответственности.
– Вы так полагаете?
– Николай Константинович, я ведь вполне отдаю себе отчет в том, что находимся мы между наковальней закона и молотом истории. Положение весьма революционное… и не вызывает сомнения, что Комиссия наша, отработав весь материал, какой она получит, должна будет представить его на разрешение представителей народа.
Появился официант и убрал со стола использованные приборы.
– Продолжайте, пожалуйста, – предложил собеседник.
– Следственная комиссия в определении своем носит понятие чрезвычайности. Поэтому и отчет должен быть чрезвычайным. Он должен соединять в себе деловую точку зрения с революционным призывом. Отчет, пользующийся тщательно проверенным материалом, добытым в течение работы комиссии, должен быть проникнут с начала до конца русским революционным пафосом, который отразил бы в себе всю тревогу, все надежды и весь величавый романтизм наших дней…
– С вами сложно не согласиться, Александр Александрович. Направление мыслей у вас очень правильное. И вполне своевременное. Судя по всему, Чрезвычайная следственная комиссия изживает свой век, и будет очень хорошо, если закончится она естественным путем… – Муравьев покачал головой.
– Я имею в виду, что естественным пределом ее работы станет созыв Учредительного собрания, которому и предстоит решить вопрос о политической и исторической целесообразности предоставления в широкий доступ наших материалов.
– Да, возможно, – Александр Блок пожал плечами. – Однако же, Николай Константинович, вы ведь сами докладывали недавно, на Съезде Советов, о положении нашей работы…
Возвратился официант с большим подносом, так что в скором времени собеседники уже наслаждались ароматной и сочной куриной котлетой.
– Александр Александрович, а каковы ваши собственные прогнозы на политическое будущее России? Поэты ведь, как известно, и чувствуют тоньше, и видят сквозь время…
Блок испытующе посмотрел на Муравьева. И только убедившись, что вопрос задан не просто для поддержания разговора, и что собеседник по-настоящему интересуется его мнением, ответил:
– Несмотря на то, что положение России сейчас критическое, я продолжаю, в общем, быть оптимистом… чего даже сам себе не могу объяснить. Наша демократия в эту минуту действительно «опоясана бурей», но обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном, и в мелком каждый день. Без сомнения, содержанием всей современной нам жизни становится всемирная революция, во главе которой стоит Россия. А мы сами так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от трехсотлетней болезни самодержавия. Говоря по совести, после нескольких месяцев пребывания в Петрограде я несколько притупился к событиям, утратил способность расчленять, в глазах пестрит. Наверное, это следствие утраты революционного пафоса – и не только личного, но и вообще…
– Что вы имеете в виду? – уточнил Муравьев.
– Видите ли, Николай Константинович… – замялся Блок. – Теперь здесь уже, так сказать, «неинтересно», в смысле революции. Правые, и кадеты, и беспартийные, пророчат Наполеона, причем одни Первого, другие – Третьего. В городе, однако, больше признаков русской лени, и лишь немногие парижские сценки из времен Коммуны. Те, кто свергал правительство, частью удрали, частью попрятались. Бабы в хвостах дерутся. Какие-то матросы из Кронштадта слоняются по улицам с ружьями… да, в общем, много такого, сами видите.
– Ну, так и что же тут удивительного? – улыбнулся товарищ министра юстиции.
– С моей точки зрения, задача Временного правительства – удерживая качели от перевертывания, следить, однако, за тем, чтобы размах колебания не уменьшался. То есть довести нашу двинувшуюся в путь страну до того места, где она найдет нужным избрать оседлость. И при этом вести ее все время по краю пропасти, не давая ни упасть в эту пропасть, ни отступить на безопасную дорогу, где Россия, конечно же, затоскует в пути, и где дух революции отлетит от нее.
– Красиво сказано. Образно… – отметил Муравьев.
– Хотя вообще-то я чувствую: музыка времени усложняется. Но ведь и вся жизнь наших поколений, жизнь так называемой просвещенной Европы – не больше, чем бабочка около свечи… Я с тех пор, как сознаю себя, другого и не видел, я не знаю середины между прострацией и лихорадкой, – Блок отложил нож и вилку. – Этой серединой, наверное, будет старческая одышка, особый род головокружения от полета, предчувствие которого у меня уже давно было…
– Сочиняете сейчас что-нибудь поэтическое? – Муравьев понимающе покачал головой.
– Нет.
– Очень жаль, – огорчился Николай Константинович. И процитировал Блока по памяти:
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе, заплаканной и древней…
Это было приятно, однако поэт покачал головой:
– Знаете, я перед уходом на войну вдруг решил, что стихи мне писать не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо было мне самому тогда категорическим образом измениться, или чтобы все вокруг изменилось, чтобы вновь получить возможность преодолевать материал…
Десерт заказывать не стали, но попросили кофе по-турецки, хотя в некоторых заведениях его теперь называли иначе – «кофе по-армянски», потому что русские воевали с турками на Кавказском фронте, и так звучало более патриотично. В ожидании официанта насытившегося Николая Константиновича потянуло на политические обобщения:
– Если можно так выразиться, старая русская власть делилась на власть безответственную и ответственную. Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом… – Он поправил пенсне. – Такой порядок государственного устройства требовал людей, твердо верующих в божественное происхождение монархии, мужественных и честных.
Блок почти автоматически открыл блокнот для стенографических записей, с которым теперь на работе не расставался. Собеседник покосился на него и продолжил:
– Как вы и сами вполне справедливо заметили, всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы, и это продолжалось много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Отчего же? Да оттого, любезный Александр Александрович, что безвластие сверху уравновешивалось равнодушием снизу! Русская власть находила опору в исконных чертах нашего народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора была только отрицательною, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. Толчок этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым и оказалась война…
Муравьев сделал эффектную паузу, которая обыкновенно производила впечатление на присяжных заседателей:
– Надо помнить, однако, что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких, чем принято думать, и чем полагается думать «по-революционному». «Революционный народ» – понятие не вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, крушение власти оказалось неожиданностью и «чудом» – скорее, просто неожиданностью! Как крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома…
– Я понимаю, – согласился Блок. – Революция предполагает волю – так было ли действие воли?
– Было. – Николай Константинович на секунду задумался и добавил: – Со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю только, была ли это революция?
…После кофе председатель Следственной комиссии рассчитался – разумеется, за обоих, категорически не принимая возражений, – и они с Блоком, выйдя из ресторана, повернули по Мойке к Большому Конюшенному мосту, от которого было рукой подать до Дворцовой набережной.
– Красота какая… – восхитился интеллигентный москвич Муравьев.
И действительно, река была сегодня хороша – темно-синие волны, небольшой ветерок и рассыпанные по воде блики солнца. Александр Блок с благодарностью улыбнулся. Как-то в самом начале войны он впервые прокатился вверх по Неве на пароходе и убедился, что Петербург, собственно, только в центре еврейско-немецкий. Окраины его были по-настоящему грандиозные и очень русские – и по грандиозности, и по нелепости, с ней соединенной. Собственно, уже за Смольным начинались необозримые хлебные склады, элеваторы, товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы и неторопливые буксиры с именами «Пророк» или «Богатырь».
– Следует иметь в виду, что скоро могут остановиться железные дороги – угля нет, – сообщил своему спутнику председатель Чрезвычайной следственной комиссии. – Пока об этом говорят большей частью правые, вроде господина Родзянко и прочих, но на это есть реальные основания.
– Да, тяжелое положение, – согласился поэт. – Вот, представляете, Николай Константинович… последнее письмо от мамы, из Шахматово, опять шло шесть дней! Нет, я на это, как и на многое подобное, не склонен раздражаться, потому что революция, однако…
– Нечего удивляться, если письма будут опаздывать, а может быть, даже и пропадать. Во всех ведомствах сейчас почти одно и то же – выгнали много опытных чиновников, которые штрафовали, были строги и требовательны… – Муравьев повернул лицо к солнцу, наслаждаясь прекрасной июльской погодой:
– Если пролетариат будет иметь власть, то нам придется долго ждать «порядка». А может быть, нам и не дождаться. Но пусть будет у пролетариата власть, потому что сделать эту старую игрушку новой и занимательной могут только дети…
* * *
Следственные действия члены Комиссии производили обычно в зале Зимнего дворца или в Петропавловской крепости, в старом Комендантском доме, где когда-то допрашивали декабристов.
Однако в тех случаях, когда не требовалось составления официального протокола, Николай Константинович Муравьев предпочитал общаться с арестованными лицами прямо в камерах.
По характеру службы секретарю Чрезвычайной следственной комиссии Александру Блоку приходилось теперь видеть и слышать то, чего обыкновенно почти никто не видит и не слышит, и что немногим вообще приходится наблюдать раз в сто лет. Нервы и мозг его находились в постоянной работе, а дело, которым ему пришлось заниматься, оказалось весьма интересным, но трудным, и отнимало у него чрезвычайно много времени и все силы.

Блок в 1917 году
«Когда мозги от напряжения чуть не лопаются (кроме того, что нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать внимание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного), тогда легче, а когда отойдешь, очень не по себе: страшно одиноко, никому ничего не скажешь и не с кем посоветоваться. Не знаю, как дальше все будет, не вижу вперед…» – писал Блок матушке в имение.
Например, как-то за день ему пришлось обойти с Муравьевым восемнадцать камер подряд – в первую очередь для того, чтобы согласовать отредактированные протоколы допросов. Сначала они посетили царского военного министра Сухомлинова, потом пошли к его жене, обвинявшейся в шпионаже, про которую Блок записал, что она «стерва», и что ее он бы точно «повесил, хотя смертная казнь и отменена». После них были старикашка Штюрмер, Протопопов, Маклаков… затем «гадкий» Курлов, убежденный черносотенец Дубровин с «погаными глазами»… генеральша Ольга Лохтина… несчастная фрейлина Вырубова, которая жаловалась на издевательства и унижения со стороны солдат, которые плевали ей в тюремную еду…
Дворцовый комендант Воейков оказался существом ничтожным, охотно давшим показания по всем вопросам. Еще меньше понравился Блоку пресловутый князь Андронников – мерзкий тип с пухлым животиком и сальной мордой. Помнится, с появлением посетителей князь угодливо подпрыгнул, чтобы затворить форточку, но до форточки каземата не допрыгнешь, так что получилось неловко. Однако особенно поразил тогда секретаря Комиссии жандармский полковник Собещанский, который ранее присутствовал при казнях, а теперь стал похож на жалкую больную обезьяну…
Но вот последний царский военный министр Беляев, министр внутренних дел Макаров, директор департамента полиции Климович и вице-директор департамента Виссарионов, как ни странно, произвели на Блока впечатление умных и честных чиновников. Они вели себя на следствии довольно смело и с большим достоинством – в отличие от своего коллеги Кафафова, несчастного восточного человека с бараньим профилем, который постоянно дрожал и плакал, что сойдет с ума в тюремных стенах… очень глупо и жалко.
Под конец дня Блоку пришлось еще сопровождать по Петропавловской крепости легендарного террориста, народовольца Морозова, которому непременно хотелось найти остатки того равелина, в котором он когда-то просидел почти три года. И еще дожидаться потом завершения заседания крепостного гарнизонного комитета, на котором Николай Константинович Муравьев не без успеха улаживал очередной скандал между солдатами и Временным правительством…
Так что на этот раз председателя Чрезвычайной следственной комиссии и его секретаря солдаты крепостного гарнизона проводили прямо в Трубецкой бастион, где содержался арестант Белецкий.
Впервые Александр Блок увидел отставного директора департамента полиции 12 мая здесь же – в Петропавловской крепости, куда Белецкого доставили в самые первые дни демократической революции. При начале знакомства он произвел на поэта впечатление деловитого, умного, но не образованного и не слишком культурного человека. Блок обратил внимание на короткие пальцы Степана Петровича, на его желтые руки и маслянистое лицо простолюдина и на неопрятную седину – и только впоследствии, перехватив пару раз острый, черный взгляд его припухших глаз, удостоверился, что в действительности этот полицейский чиновник умен, изворотлив, хитер, и никому и ни во что не верит. Блок также заметил, что Белецкий, в отличие от большинства других сановников и генералов, умеет вовремя остановиться и говорит только то, что приходится говорить по необходимости, и что за время следствия он рассказывал многое, но так и не признался ни в чем… Одним словом, недаром в свое время это был выдающийся директор департамента полиции, едва ли не ставший обер-прокурор синода.
– Я могу посмотреть еще раз? Чтобы, так сказать, удостовериться окончательно?
– Извольте… – Николай Константинович взял со стола несколько листов бумаги с отпечатанным текстом и протянул их подследственному.
Одиночная камера, в которой содержался Белецкий, была довольно просторной – шагов десять по диагонали и поперек в пять-шесть шагов. Солнечные лучи попадали в нее только по вечерам, при заходе солнца, да и то лишь на подоконник, поэтому в камере постоянно царил полумрак и стояла какая-то нездоровая сырость. Керосиновая лампа горела практически круглые сутки, а глазок в двери оставался на ночь открытым для наблюдения за заключенным. Каменный пол «одиночки» был выкрашен в затертый желтый цвет. Обстановку камеры составляли привинченный к полу стол и нары, умывальник, а также параша. Сантехнический фаянс имел довольно сносный вид и был подключен к водопроводу, однако умывальный и смывной бачки располагались в коридоре, так что подавать воду или нет, решал тюремный надзиратель…
Сегодня в одиночке у Белецкого оказалось тесновато. Из-за того, что единственный стул занял секретарь Чрезвычайной следственной комиссии Блок со своими бумагами и рабочим блокнотом, самому обитателю камеры пришлось расположиться прямо на постели, аккуратно заправленной одеялом. Одет он был в синий тюремный халат со стоячим воротником, из-под которого виднелись серые подштанники, заправленные в сапоги. Николай Константинович Муравьев, как обычно, предпочитал стоять лицом к тюремным нарам, и спиной к окну. Возле приоткрытой двери курили, выпуская в коридор вонючий дым от папиросы, еще два товарища в военной форме – представитель солдатского комитета и дежурный надзиратель, которым было поручено на всякий случай наблюдать за происходящим.
…Степан Петрович неторопливо изучил бумаги:
«…Так как в настоящее время уже не представляется сомнений в том, что Государственная Дума при поддержке так называемых общественных организаций вступает на явно революционный путь, ближайшим последствием чего, по возобновлении ее сессии, явится искание ею содействия мятежно настроенных масс, а затем ряд активных выступлений в сторону государственного, а, весьма вероятно, и династического переворота, надлежит теперь уже подготовить, а в нужный момент незамедлительно осуществить ряд совершенно определенных и решительных мероприятий, клонящихся к подавлению мятежа, а именно:
I. Назначить на высшие государственные посты министров, главноуправляющих и на высшие командные тыловые должности по военному ведомству (начальников округов военных генерал – губернаторов) лиц, не только известных своей издавна засвидетельствованной и ничем непоколебленной и незаподозренной преданностью Единой Царской Самодержавной власти, но и способных решительно и без колебаний на борьбу с наступающим мятежом и анархией; в сем отношении они должны быть единомышленны и твердо убеждены в том, что никакая иная примирительная политика невозможна. Они должны, кроме того, клятвенно засвидетельствовать перед лицом Монарха свою готовность пасть в предстоящей борьбе, заранее на сей случай указать своих заместителей, а от Монарха получить всю полноту власти.
II. Государственная Дума должна быть немедленно Манифестом Государя Императора распущена без указания срока нового ее созыва, но с определенным упоминанием о предстоящем коренном изменении некоторых статей (86, 87, 111 и 112) Основных Законов и Положений о выборах в Государственный Совет и Думу.
III. В обеих столицах, а равно в больших городах, где возможно ожидать особенно острых выступлений революционной толпы, должно быть тотчас же фактически введено военное положение (а если нужно, то и осадное) со всеми его последствиями до полевых судов включительно.