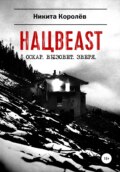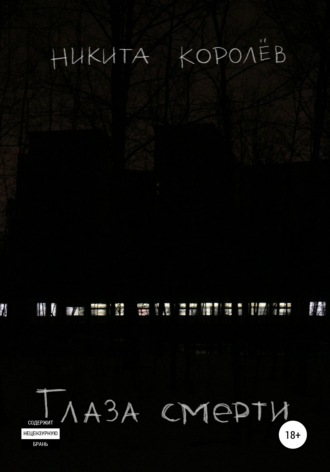
Никита Королёв
Глаза смерти
Сожалею ли я? О смерти Пуси, о том, как обращался с ней при жизни, о том, что сказал в парке у обелиска? Ответ «нет» ввергает меня в пучину такой чёрствости, такого цинизма, в которой я просто не смог бы себя выносить. Однако и положительный ответ сулит мне бездну не меньше – бездну вины. Конечно, я виноват – за гнев, за то, что бил беззащитное существо, за страшные слова, за тот гнусный обман, в котором жил, вернее, который и был моей жизнью, и который с ловкостью и игрой фокусника сейчас вскрыла смерть.
Боюсь ли я смерти? Нет – и тогда я мертвец, ведь только они не боятся смерти. Да – и тогда я пугливый ребёнок, чей страх непобедим, потому что неустранима его причина.
Петроний говорил: «Не думайте о смерти – она сама о всех нас позаботится». Но ведь она как зловредная подружка, которая обижается, когда о ней слишком долго не вспоминаешь. Толстой говорил: «День, прожитый без мысли о смерти, – зря прожитый день». Но разве смерть – не удел мёртвых, тогда как для нас, живых, есть жизнь со всеми её волнениями и красками, со всем её забвением, в том числе и в отношении смерти? Впрочем, смерти, вероятно, было не очень интересно, что о ней думает и тот, и другой, когда она их забирала.
Я посмотрел на маму и увидел, что она тоже беременна смертью. Смерть серебрилась седыми прожилками в её крашенных хной волосах, она ползала морщинами и дрожала обвислостями на её немолодом лице.
Объявили станцию «Струнино», и мы вышли. Вокруг всё было каким-то тёмным, самодельным и зыбким, как лихорадочный сон, который вот-вот станет холодной пустынной явью. Люди, будто только вылупившиеся черепашата, ползли от станции к остановке, чтобы расплыться кто куда. Мы вошли в крохотное здание вокзала, но там Светланы не оказалось. Тогда мы пошли на парковку. Увидев нас, Светлана вышла из машины, сквозь зубы поздоровалась, резкими движениями открыла заднюю дверь и достала из салона контейнер-переноску. Я, конечно, первым делом заглянул на дно переноски: Пуся была прикрыта пелёнкой – только кончики белой шерсти торчали из-под дверцы. Всё это казалось какой-то случайностью, недоразумением, как будто, пройди мы мимо этой странной женщины-кошатницы, Пуся бы не умерла. Наверное, так казалось потому, что встречи со смертью никогда не бывают своевременными.
Мы стояли в узком зазоре между автомобилями, и я думал, что сейчас начнётся какая-то безобразная скандальная сцена – мы всё-таки спихнули на эту женщину старое умирающее животное. Но раздражение оказалось только видимостью, и потекли тихие слова благодарности, а в ответ – сочувствия. Мама спросила, есть ли где-нибудь неподалёку ветклиники, где кремируют животных. Светлана ответила, что они уже все закрыты. И пока они с мамой разговаривали об упущенном времени, об обстоятельствах Пусиной смерти, я разглядывал Светлану. Это была женщина ближе к шестидесяти, темноволосая, бывшая москвичка, но с чем-то малорусским в круглых глазах, оттенённых смертью.
Когда последние слова были сказаны, мы взяли у Светланы контейнер и два пакета с Пусиными вещами, попрощались и пошли в сторону станции.
Поначалу мне было неловко оттого, что мы поедем в общественном транспорте с мёртвой кошкой, но потом подумал или, скорее, почувствовал, что в горе утопают всякие чувства – в том числе и стыд.
Мама зашла в кабинку туалета у вокзала, а я остался на улице с вещами. Контейнер был удивительно лёгкий, словно в нём ничего не лежало, – кошка из-за проблем с гормонами сильно похудела. Контейнер был и раньше лёгкий, когда я ехал вместе с ним на уколы, но тогда он сопротивлялся наклонам, потому что сидящая в нём кошка пыталась сохранить равновесие. И ещё она жалобно и громко мяукала, когда мы ехали в лифте, и как-то раз я, раздражённый этим, хорошенько встряхнул контейнер. Тогда Пуся замяукала ещё громче и теперь вдобавок к этому шипела, округлив глаза и навострив усы. На одном из этажей в лифт вошёл человек; мы друг другу улыбались, он – понимающе, я – смущённо. И сейчас я мог трясти контейнер сколько влезет – никто уже не будет сопротивляться, шипеть и мяукать. Рука, его державшая, вдруг похолодела и ослабла, будто заразилась смертью от лежавшей в нём кошки. Я посмотрел на огни далёкой дороги за лесом, на красно-серую полосу станции «Струнино», на чёрное мглистое бескрайнее пустынное небо – и увидел смерть. Она была лишь издержкой жизни. Но что, если сама жизнь стала издержкой? Словом, говоренным множество раз и оттого потерявшим смысл. Тогда смерть превращается в настоящую проблему. Смогу ли я перенести смерть матери? Смогу ли я перенести смерть брата? Смогу ли я перенести собственную смерть? Тогда я подумал о возможных выходах из этой череды бессмысленных пыток; один из них пролегал через рельсы, по которым к станции подходил поезд. Но неужели я смогу причинить своим близким ту боль, которой сам так сильно страшусь? Неужели смогу стать для них новым звеном в череде тех пыток, от которых хочу убежать? Так, стало быть, вершиной сострадания и человечности будет жить как можно дольше, пережить всех, кто мог бы о тебе скорбеть? Или, может, убить кого-то, стать злом во плоти, только чтобы моя смерть не откликнулась в сердцах ничем, кроме облегчения? Но не это ли и высший мазохизм? Мама вышла из туалета, взяла у меня контейнер с кошкой, и мы двинулись к зданию вокзала, покупать билеты в обратный путь.