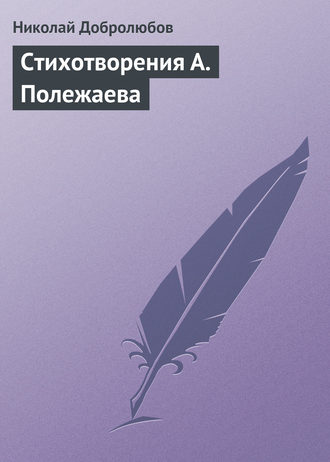
Николай Александрович Добролюбов
Стихотворения А. Полежаева
Питал с улыбкой мудреца,
И счастлив был! Самозабвенье
Таилось в бездне пустоты…
. . . . . . . [5]
Если бы мы захотели, мы могли бы найти у Полежаева много подобных признаний, доказывающих, что он был человек не вроде поручика Пирогова[6] и что порыв, увлекавший его к наслаждениям чувственности, скоро сменился бы другим, более благородным увлечением. Он уже начинал, кажется, этот поворот жизни, когда над ним разразился новый удар судьбы и
Мир души погребла
К шумной воле любовь…[7]
Из молодого, разгульного кружка своих товарищей внезапно попал Полежаев в другой круг – гораздо более грубый, порочный и невежественный, в котором смотрели на поэта как на преступника и негодяя. Он не хотел и не мог подчиниться тому, чему легко подчинялись другие, а его заставляли подчиняться.
Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье[8],
и Полежаев ожесточился против людей и судьбы. Сначала у него еще оставался какой-то гений, которого он не называет ни добрым, ни злым, но который обещал ему свое покровительство, а потом забыл его… Полежаев с доверчивостью ждал его помощи, и надежда на этого гения поддерживала его в постоянной борьбе с обстоятельствами. Утомляясь борьбою, он восклицал:







