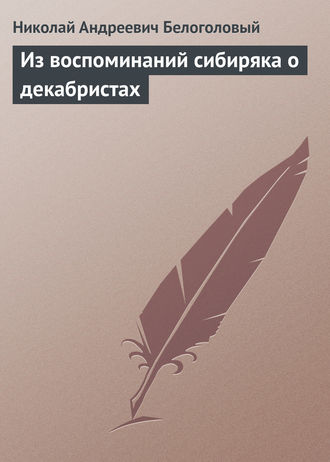
Николай Андреевич Белоголовый
Из воспоминаний сибиряка о декабристах
IX
В 1845 г. Трубецкие, как я сказал выше, жили еще в Оёкском селении в большом собственном доме. Семья их тогда состояла, кроме мужа и жены, из 3-х дочерей – старшей Александры, уже взрослой барышни, двух меньших прелестных девочек, Лизы – 10 лет и Зины – 8 лет, и только что родившегося сына Ивана. Был у них еще раньше сын Лева, умерший в Оёке в 9-летнем возрасте, общий любимец, смерть которого долго составляла неутешное горе для родителей, и только появление на свет нового сына отчасти вознаградило их в этой потере. Сам князь Сергей Петрович был высокий, худощавый человек с некрасивыми чертами лица, длинным носом, большим ртом, из которого торчали длинные и кривые зубы; держал он себя чрезвычайно скромно, был малоразговорчив и вследствие этого считался человеком ума рядового. О княгине же, Екатерине Ивановне, урожденной графине Лаваль, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я видал ее очень мало и мне пришлось бы повторять только банальности, и то с чужих слов; помню только, что она была небольшого роста, с приятными чертами лица и большими кроткими глазами, и иного отзыва о ней не слыхал, как тот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего оёкского населения, находившего всегда у нее помощь словом и делом. Князь тоже был очень добрый человек, а потому и мудреного ничего нет, что это свойство перешло по наследству и к детям, и все они отличались необыкновенною кротостью. В половине 1845 года произошло открытие девичьего института Восточной Сибири в Иркутске, куда Трубецкие в первый же год открытия поместили своих двух меньших дочерей, и тогда же переселились на житье в город, в Знаменское предместье, где купили себе дом.
Мое сближение с семьей Волконских было более короткое, а потому я могу рассказать о ней сравнительно больше; она состояла тогда из мужа, жены, сына-подростка и дочери. Старик Волконский – ему уже тогда было около 60 лет – слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. Когда семья переселилась в город и заняла большой двухэтажный дом, в котором впоследствии помещались всегда губернаторы, то старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени наезжал к семейству, но и тут – до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями – он не останавливался в самом доме, а отвел для себя комнатку где-то на дворе – и это его собственное помещение смахивало скорее на кладовую, потому что в нем в большом беспорядке валялись разная рухлядь и всякие принадлежности сельского хозяйства; особенной чистотой оно тоже похвалиться не могло, потому что в гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапогов. В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков; в городе носился слух, что он был очень скуп. Так как мне едва ли придется далее возвращаться к старику Волконскому, то я здесь, кстати, расскажу мое последнее свидание с ним, бывшее несколько лет после амнистии, в 1861 или в 1862 году. Я был тогда уже врачом и проживал в Москве, сдавая свой экзамен на доктора; однажды получаю записку от Волконского с просьбою навестить его. Я нашел его хотя белым, как лунь, но бодрым, оживленным и притом таким нарядным и франтоватым, каким я его никогда не видывал в Иркутске; его длинные серебристые волосы были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и заметно выхолена, и все его лицо с тонкими чертами и изрезанное морщинами делали из него такого изящного, картинно красивого старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись этой библейской красотой. Возвращение же после амнистии в Россию, поездка и житье за границей, встречи с оставшимися в живых родными и с друзьями молодости и тот благоговейный почет, с каким всюду его встречали за вынесенные испытания – все это его как-то преобразило и сделало и духовный закат этой тревожной жизни необыкновенно ясным и привлекательным. Он стал гораздо словоохотливее и тотчас же начал живо рассказывать мне о своих впечатлениях и встречах, особенно за границей; политические вопросы снова его сильно занимали, а свою сельскохозяйственную страсть он как будто покинул в Сибири вместе со всей своей тамошней обстановкой ссыльнопоселенца. Но при всей этой видимой бодрости он жаловался на одышку и другие болезненные явления, просил меня осмотреть его – и я нашел у него старческое перерождение артерий с последовательным расстройством компенсации сердца, отеком ног и т. п. Тут же по поводу своих опухших ног Волконский передал мне удивительную историю, случившуюся с ним в Париже, назидательную для врачей и для пациентов. В 50-х и 60-х годах среди русской знати, ездившей за границу для лечения, большой репутацией, как консультант, пользовался дрезденский профессор Вальтер, и большинство обращалось к нему за советом и за назначением минеральных вод. Побывал у него и Волконский, а потом через несколько времени, попавши в Париж, почувствовал себя очень нехорошо: вероятно, от усиленной ходьбы по улицам, от частых подъемов по высоким лестницам, деятельность больного сердца нарушилась, и старика стали особенно беспокоить сильно отекшие ноги, и так как проф. Вальтер случайно находился тут же в Париже, то Волконский, узнав об этом, пришел к нему посоветоваться. Недаром говорится: «в Париж приедешь – угоришь»; должно быть, угорел и профессор и, сбитый с панталыку суетой парижской жизни, принял больного, куда-то торопясь, спешно осмотрел наиболее мучившую его ногу, распухшую и всю испещренную красными и синими полосами, и затем, приняв озабоченную физиономию, без дальнейших расспросов и околичностей сказал: «не могу скрыть от вас, князь, что ваше состояние крайне серьезно: у вас воспаление кровеносных сосудов, болезнь настолько опасная, что если мы не поспешим отнять у вас поскорее ногу, то я не ручаюсь за вашу жизнь. Но сам я не хирург, а потому сделаем лучше всего так: отправляйтесь немедленно домой и ложитесь в постель, а сегодня же в 4 часа я заеду к вам и привезу с собой одного из лучших здешних хирургов, и мы потолкуем, а так как, мне кажется, операцию рискованно откладывать в долгий ящик, то мы захватим с собой и ассистентов и все нужное, чтобы сделать ее тотчас же, если только найдем это нужным». Ошеломленный таким неожиданным приговором, старик еле доплелся до своей квартиры, перетревожил ужасною вестью всю свою семью, бывшую, к великому счастью, вместе с ним в Париже, улегся в постель, и все стали с понятным волнением поджидать приезда докторов. В положенное время они явились целым взводом, с ящиком инструментов; семья тотчас же атаковала Вальтера расспросами, и он, повторив ей то же, что высказал утром больному, пошел с врачами в спальню пациента и сталь совместно с ними осматривать ноги пациента и тут же, обращаясь к дочери Волконского, указал ей на широкие красные и синие полосы, покрывавшие густою сетью распухшие голени, как на зловещий признак воспаления вен, заставляющий его настаивать на операции. – «Как? – сказала молодая женщина, – да ведь это полосы от цветных шерстяных чулок, которые носит всегда папа!» и, увидав удивление, смешанное с недоверием, на лице ученого немца, распорядилась подать мыло и теплую воду и тотчас же на глазах консилиума смыла начисто все эти грязные полосы и пятна. Смущенный Вальтер поспешил ретироваться с привезенными хирургами и инструментами. «Да, не заступись за меня дочь, отхватили бы мне ваши знаменитые коллеги обе ноги, а то бы, пожалуй, и совсем зарезали» – закончил Волконский свой рассказ, добродушно посмеиваясь. Это было мое последнее свидание с стариком; он вскоре уехал из Москвы и в половине 60-х годов умер в имении своего зятя Кочубей, в селе Воронки, Козелецкого уезда, Черниговской губернии.






