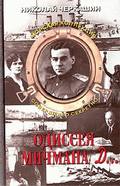Николай Черкашин
Лес простреленных касок
Глава вторая
Гродненский патруль
А между тем… А между тем главный фигурант «сигнала» военюрист 2‐го ранга Иннокентий Иерархов получил из рук дежурного по штабу дивизии пистолет, извлеченный из сейфа с заручным оружием[4]. До этого Иннокентий имел дело лишь с наганом, и то только на стрельбищах, теперь же ему выдавался на сутки новенький ТТ.
Иннокентий закончил юридический факультет Московского университета. До той поры в армии не служил, но, получив диплом, принял предложение знакомого военкома, отца своего однокурсника, пойти в военную юстицию. После курсов Военно-юридической академии служил он в Московском гарнизоне, и не где-нибудь, а в Главной военной прокуратуре. Начинал с самой низовой должности, но довольно быстро пошел вверх и даже досрочно получил звание военюриста 2‐го ранга. Карьеру пришлось делать не в лучшее время: в Главной прокуратуре, как и повсюду в РККА, шла беспощадная чистка партийных и беспартийных рядов. Умные люди посоветовали Иннокентию перевестись на время в войска, подальше от Москвы, мало ли что… Он поверил умным людям и перевелся в Западный особый военный округ, а там его отправили в абсолютно незнакомый город Гродно на должность дивизионного прокурора.
Дивизия только-только набирала полный штат, и пока из-за нехватки среднего начсостава всех, кто к нему относился, – интендантов, военврачей и даже военюристов, – привлекали к несению всевозможных служб. Вот и Иерархова, в чьих петлицах посверкивала капитанская шпала, назначили в гарнизонный командирский патруль. Никогда доселе этих обязанностей он не выполнял и потому с любопытством принял новую роль. Впрочем, в чем-то она совпадала с его юридическими функциями – быть «государевым оком», то есть следить за правопорядком, за тем, достойно ли ведут себя товарищи командиры на улицах большого города, соблюдают ли правила ношения военной формы, козыряют ли друг другу как положено, соблюдают ли прочие уставные нормы. Пистолет же полагался и для придания особого веса фигуре начальника патруля, и для того, чтобы уверенно чувствовать себя в среде хоть и советского, но всё еще чужого, а по ночам и вовсе враждебного города. Именно об этом говорил ему на инструктаже помощник военного коменданта, который был весьма доволен, что патруль возглавит человек с профессиональной юридической подготовкой. Всегда бы так было! Но на все патрули юристов не напасешься.
Тут прибыли два бойца с шашками на перевязях. Один аж целый сержант, рослый бывалый казачина в гимнастерке цвета старого сена, другой помладше, по-юношески розовощекий, оба в кубанках, на васильковых петлицах скрещенные на подкове шашки. Кавалеристы? Казаки.
Старший приложил ладонь к кубанке:
– Сержант Пустельга. Сто сорок четвертый кавполк. Прибыл для несения патрульной службы.
Представился и младший:
– Казак Нетопчипапаха.
Иерархов улыбнулся:
– Как-как? Нетопчипапаха? И много ты папах истоптал?!
– Фамилия у меня такая. Казачья.
– Где же ваши кони, казаки-разбойники?
– А мы пулеметчики, – пояснил Пустельга. – Из пулеметного эскадрона. Наши кони при тачанках.
Сам 144‐й полк стоял в Кузнице, в Гродно же располагался его пулеметный эскадрон. Обычно рядовые бойцы ходят в патруль со штык-ножами на поясе, но казаки прибыли со своим штатным оружием – шашками. Иерархову это понравилось – солидное сопровождение, но помощник коменданта, капитан-танкист с лицом, чуть заплывшим казенным жирком, озабоченно заворчал:
– Вы б еще с мечами приперлись! С шашками в патруль не положено. И куда я их теперь дену? В сейф не засунешь, на гвоздь не повесишь. Вам штык-ножи положены, а не сабли.
– Шашки нам по форме одежды положены, – возразил Пустельга. – А штыки – это для пехоты.
– Учить меня будешь?! По форме одежды… На парадах шашкой махай, тогда это по форме одежды. Ну ладно, в порядке исключения идите с шашками. На страх врагам, так сказать.
Капитан внимательно осмотрел гимнастерки: подшиты ли свежие подворотнички? Подшиты. Не одобрил собранные в гармошку голенища надраенных до черного блеска сапог:
– Не на свадьбу собрались. Голенища выпрямить!
Помощник коменданта принял строгий вид и вручил Иерархову схему патрулирования.
– Обращаю особое внимание на район вокзала. Здесь могут быть и транзитные бойцы, и праздношатающиеся личности из нашего гарнизона, и хрен знает кто… Ваша обязанность, товарищ военюрист, делать напоминания равным себе и младшим по воинскому званию военнослужащим, нарушающим дисциплину, если необходимо, проверять у них документы. И последнее: в особых случаях после установления личности нарушителя доставлять его в военную комендатуру. И последнее: связь с комендатурой по телефону из любого советского учреждения. Или через посыльного – бегом, аллюр три креста. Моя фамилия Семенов. Слыхали такую? Почти Иванов. Можете мне напрямую звонить. И последнее: не пропускайте и подозрительных гражданских личностей. В случае чего оказывайте содействие органам милиции.
Так, это я сказал… И последнее. В парках не отсиживаться, мороженое не лизать, цукервату всякую, лимонады и прочие лакомства во время несения службы не употреблять. Не курить. На обед – в столовую при комендатуре. После обеда час на отдых – и снова на маршрут, но уже по второму варианту. Задача ясна?
– Так точно.
– Вопросов нет?
– Никак нет.
– И последнее, но очень важное: в случае нападения на патруль имеете право применять оружие на поражение. Но надеюсь, дело до этого не дойдет. Ни пуха ни пера!
* * *
Иерархов шагал по привокзальной площади вместе со своими бойцами. Казаки с интересом поглядывали по сторонам: большой и почти заграничный город их интриговал, и особенно девушки, модные местные паненки, которые гарцевали по тротуарам на высоких каблуках.
Пустельга вдруг сбил кубанку на затылок:
– Ой, дудаки летят!
– Где? – вскинулся его товарищ.
– Дудаки летят, а дураки глядят! – захохотал сержант.
Иерархов невольно улыбнулся. Пустельга подтрунивал над своим младшим односумом при каждом удобном случае. Ребята молодые, озорные. Сам же он в свои тридцать два чувствовал себя служивым мужем, умудренным житейским опытом, всезнающим и всепонимающим. Тяжелая кобура оттягивала ремень, а он важно патрулировал: зорко высматривал в толпе людей в гимнастерках и френчах; строго следил, отдают ли честь, а также, как напутствовал его помкоменданта, соблюдают ли «все нормы ношения летней парадно-выходной формы одежды». У рядовых красноармейцев проверял увольнительные записки, у командиров – выборочно – документы. Помощник предупредил, что в городе могут быть диверсанты, переодетые в советскую форму. Это вносило особую тревожную ноту в выполнение рутинных обязанностей патруля.
Иннокентий в свои явно не юношеские годы всё еще мечтал отличиться именно на военном поприще, а не на ниве юстиции. Его здешние прокурорские дела были довольно однообразны и мелки. Сплошным потоком шли пьянки, разбазаривание казенного имущества, дорожно-транспортные происшествия, а то и вовсе несуразные ЧП. Судили капитана-штабиста: хорошо набравшись в ресторане, он, выходя, закрыл дверь и опечатал ее печатью для секретных документов. Или вот только вчера разбирался с делом по «расхищению социалистического имущества». Следователь оформил пухлую папку документов на старшину шорной мастерской Валько. Из нее явствовало, что старшина-шорник продал частникам два строевых конских седла общей стоимостью в пятьсот двадцать рублей. Теперь Валько грозило тюремное заключение до трех лет с конфискацией имущества. Иннокентию было жаль незадачливого предпринимателя, отца семейства и отменного кожевенника.
– Зачем ты продал седла? – спрашивал он поникшего преступника суровым прокурорским тоном.
– Я их не продавал, гражданин прокурор, их никто бы и не купил, они бракованные были.
– И что ты с ними сделал?
– На бимбер сменял, то есть на самогон, по-ихнему, – потупился Валько.
– Акт о выбраковке седел есть?
– Никак нет, не успел составить.
– Так торопился выпить?
– Так точно! У меня дитё родилось, девочка, значит. Надо было отметить с товарищами.
– На сколько седла потянули?
– На десять бутылок.
– И что, все выпили?
– Никак нет. Еще пять бутылок осталось… Про запас.
– Вам спирт выдают для производственных нужд?
– Выдают. Мы им кожу размягчаем перед прошивом.
Иерархов вырвал из блокнота листок, на котором записал несколько советов для подследственного.
– Смотри сюда и запоминай, если не хочешь загреметь в тюрягу. Важно: ты седла не продавал, то есть не получал за них денег. Но совершил неравноценный обмен на жидкость производственного назначения. То есть факта наживы не было.
– Истинный бог, не было никакой наживы! Какая ж тут нажива, когда пили всем коллективом.
– Про выпивку помолчи! Второе: ты готов возместить нанесенный ущерб как в товарообменном виде, то есть оставшимися бутылками для производственных нужд, так и деньгами из жалованья. Готов?
– Еще как готов! Всё отдам, только в тюрягу не сажайте.
– Раньше надо было думать, и желательно головой… Кто ж тебя под суд-то спровадил?
– Командир нашей хозроты старший лейтенант Емышев.
И тут выяснилось, что хозрота еще не передана в состав дивизии, и формально старшина шорной мастерской Валько подлежит юрисдикции судебного органа той кавалерийской дивизии, которую сейчас переформировывают в танковую. Танкистам седла не нужны, а следовательно, и шорная мастерская без надобности. И дело надо передавать в другую инстанцию, которая зависла между двумя дивизиями. На этом Иерархов и сыграл, и старшине Валько досталось не уголовное наказание, а административно-служебное.
– Вам бы адвокатом быть, а не прокурором, – прокомментировал это дело прокурор 3‐й армии на совещании дивизионных и корпусных юристов. И был прав, потому что свой университетский диплом Иерархов писал как раз по адвокатуре, положив в основу деятельность легендарного Федора Никифоровича Плевако.
Но вот младшего лейтенанта Сурганова, командира взвода радиорелейной связи, выручить не удалось. Дернуло же его за язык съязвить про символ пролетарского единства, серп и молот! Едкое присловье изложили потом в письменном «сигнале» так: «Якобы хочешь жни, а хочешь куй, якобы все равно получишь якобы мужской половой орган». За младшим лейтенантом Сургановым числилось и еще одно высказывание, записанное за ним на занятиях по марксистско-ленинской подготовке. Речь шла о Третьем съезде РСДРП в Лондоне. «Интересно, – спросил ехидный младший лейтенант, – а сколько на том съезде было рабочих и крестьян?» Старший политрук сначала опешил от такого, казалось бы, невинного вопроса, потом мгновенно понял его подоплеку (какие рабочие и крестьяне могли позволить себе приехать в Лондон на партийный съезд, да и кто бы их туда, в Англию, пустил?!) и тут же дал отпор антипартийному выпаду, а затем и должную политическую оценку. Теперь же в совокупности «становился ясным истинный облик скрытого антисоветчика». Младшему лейтенанту Сурганову неотвратимо светила 58‐я статья УК за антисоветскую пропаганду. Тут и сам Плевако не смог бы его спасти: разжалование, увольнение из рядов РККА, как минимум пять лет исправительных лагерей. Воистину, язык мой – враг мой.
И такая дребедень целый день, целый день… Создавалось впечатление – ложное, конечно, – что в батальонах, полках и дивизиях РККА только и делают, что пьянствуют, безобразничают, воруют, бездумно гробят дорогую технику… Именно такой взгляд на армейские будни складывался, наверное, у любого военного юриста.
Несмотря на запрет вести дневники и личные блокноты, Иннокентий Иерархов, верный университетской привычке, всё же записывал главные события своей жизни, чувства и мысли в кожаную карманную книжицу – Галина подарила ее на день рождения. Записал и все ощущения, связанные с первым патрулированием.
ИЗ ДНЕВНИКА ИННОКЕНТИЯ ИЕРАРХОВА:
Я иду с пистолетом на поясе. Тяжелая кобура похлопывает по правому бедру, напоминая о себе неотвязно. Я впервые заступаю в офицерский патруль. Я впервые иду с оружием. Лейтенант в штабе дивизии достал из железного ящика пистолет ТТ, запасную обойму к нему и книгу выдачи оружия. Я оставил свою подпись. Боже, где я только не расписывался за свою жизнь!.. Как будто в прокатном пункте. Хорошая идея – пистолет напрокат.
Я открыл кобуру, но пистолет упорно не хотел туда влезать. Мешал ремешок, перегораживающий полость кобуры. Хорошо, что лейтенант закрывал ящик и не видел этих дилетантских усилий. Кстати, с какой стороны ее носят? Кажется, с правой… На снаряжении штамп – «Фабрика “Марксист”». Странное название для фабрики, выпускающей такую продукцию.
А вот так крадут патроны: набивают магазин пустыми гильзами, а сверху два боевых. Дежурный по штабу принимает магазины, не пересчитывая патроны и даже не вынимая их из кобуры. Есть два – и ладно. Шесть тупорылых пуль в моем кулаке уставились сквозь рукоять пистолета, словно рыбки в аквариуме. Пружина-лифт подаст их из кулака в ствол. Пальцы обнимают патроны, спрятанные в рукояти.
В гарнизонную комендатуру полагается приходить со своим табельным оружием. В комендатуре густо пахнет хлоркой и свежей краской. Топчан, обитый в ногах железом. Лубок на стене «Развод караулов». Катушка черных ниток. Аптечка, почему-то на дверце только один красный полумесяц. Красный крест стерт. Схема патрульных маршрутов на карте города. Железный сейф размером с бабушкин буфет.
Двое арестованных стройбатовцев добровольно вызвались убирать коридор. Всё лучше, чем в камерах сидеть…
Помощник коменданта выдал мне повязку «Патруль» без завязки. На какую руку ее надевать? На правую, левую?
За удостоверение начальника патруля пришлось еще раз расписаться.
«Удостоверение начальника патруля. Маршрут № 13 (ну конечно же, опять чертова дюжина!): комендатура, улица Ожешко, вокзал.
Уходить с маршрута КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Телефоны: УГК… Милиция… Госпиталь…
Начальник патруля обязан:
– принимать меры к прекращению нарушений воинской дисциплины и общественного порядка среди военнослужащих;
– проверять у военнослужащих документы, а в случае необходимости задерживать и направлять в Управление коменданта г. Гродно.
Комендант гарнизона подполковник Степанчиков».
* * *
О, сколько нарушений может усмотреть патрульное око в форменной одежде, казалось бы, такой единообразной! Вон хотя бы у тех трех лейтенантов: у одного кубари на петлицах пиленые, самодельные, у другого сапоги «всмятку» – в гармошку и козырек у фуражки обрезанный…
Пистолет на поясе обязывает меня застегнуть воротник собственной гимнастерки на все крючочки, и клапаны карманов – тоже, и чтобы подворотничок выступал на положенные три миллиметра – спичечную головку.
Но пистолет… Он не давал мне покоя. Я несу в кобуре на боку чьи-то шестнадцать жизней, точнее, чьи-то шестнадцать смертей. Сегодня я наделен особой властью вершить добро и справедливость, принимать на месте без долгих рассуждений решение, что есть зло и добро. И поскольку зло наказуемо иногда лишением жизни носителя зла, я должен стрелять «именем Родины», «именем Закона». Я буду сам выносить приговор и, возможно, тут же приводить его в исполнение. Вот так вот, и никак иначе!
Я вышел на перрон вокзала, и старшина с тремя красноармейцами испуганно козырнули мне. Меня приветствуют все лейтенанты и даже равнозначные мне капитаны… Я словно корабль с пушкой на борту. На боку…
Итак, я вооружен. Я могу сделать всё что угодно: войти в магазин и отобрать под дулом пистолета дневную выручку. Могу застрелить бандита, который сам попытается это сделать… Могу… Боже, что лезет в мою голову?! О чем я думаю?.. Нет, я просто перебираю варианты того, что может натворить безвольный и к тому же порочный человек с пистолетом. Но я же не таков! Я же этого никогда не сделаю! Напротив, для того у меня и пистолет, чтобы я никому не позволил сделать что-нибудь подобное.
А что, если я скрытый параноик или псих, сойду в одночасье с ума? Я, например, могу прийти на телеграф, позвонить в Москву любимой женщине и застрелиться, дабы морально наказать ее за черствость, да так, чтобы она услышала этот выстрел за тысячу километров. Пистолет… Этот странный предмет запал мне в душу и взметнул осадок устоявшейся мути. Чего там только не было… Лучше не копаться в себе, когда на боку у тебя оружие. Впрочем, это чисто прокурорский подход.
На время обеда я отпустил своих патрульных в армейскую столовую, а сам отправился домой, благо гостиница-общежитие в ста метрах от столовой. Обедать не буду. Галя обещала заглянуть ко мне в эти часы, и я приготовил свое скромное жилище к ее приходу.
А ведь мы давно могли быть вместе, если бы она была более самостоятельной и умела хотя бы иногда перечить воле родителей. Конечно, можно понять и ее папу с мамой: кому в наше время захочется отдать дочь замуж за человека, чей отец под следствием? Для ее отца, партийного работника, второго секретаря Краснопресненского райкома, это стало бы крахом карьеры, да и студентка юрфака долго бы не проучилась в МГУ. Это всё понятно. Но ведь всего через полгода моего отца освободили из следственного изолятора, с него сняли все обвинения, и он восстановлен в партии. Разве это срок – подождать всего шесть месяцев? Но ее тут же засватали, и она согласилась на уговоры родителей, вышла замуж за командира нашей замечательной Красной армии. Даже не посмотрела на то, что он старше ее на десять лет, что он вовсе не москвич, а из каких-то провинциальных Валуек и что он не дал ей толком закончить университет, пришлось перевестись на заочное отделение и уехать с ним в какую-то тьмутаракань… Все эти обиды и несуразности сами собой связались в одну цепочку, и во всякого, кто посмел бы бросить в нас камень, обвинить в прелюбодействе (по-современному – в «морально-бытовом разложении»), я влепил бы эту обойму аргументов, как без промаха бил на стрельбище из пистолета ТТ.
Пистолет… Как изящна и элегантна эта машинка, почти медицинский инструмент для пресечения жизни, перфоратор сердечной сумки или черепной коробки. Почти та самая блестящая металлическая штучка, которой прокалывают палец, когда берут кровь. Только не сверкает никелем, а отливает вороненой сталью.
Ишь, как отлажен, продуман… Патроны с округлыми головками пуль – латунные капсулы смерти. Пули – пилюли. Один шарик – одна смерть. Дьявольская гомеопатия. Пистолет – антипод вагины. Вагина рожает, а пистолет отражает, уничтожает, умерщвляет. Смертородный орган мужчины…
Невольно любуюсь этой дьявольской вещицей. Как пригнана она по руке: ладонь обхватывает рукоять плотно, и все рельефы – впадинки, бугорки сжатой человеческой кисти – заполнены тяжелым грозным металлом. Он лежит в руке как влитой, каждый палец сразу находит себе место. Спусковой крючок выгнут точь-в-точь под подушечку указательного пальца. Как стремительно и хищно очерчено обрамление его ствола! Рифленая рубчатая рукоять. По стволу идет мелкая насечка, словно узор по змеиной спинке. Обе пластмассовые щечки украшены звездами. Три номера – на затворе, на основании и на рычажке предохранителя ИА 4548 и заводское клеймо, треугольник в круге. Почти масонский знак. Год сборки – 1939. Всё до смешного просто – пружина и трубка. Затвор, облегающий ствол, – сгусток человеческого хитроумия: его внутренние выступы, фигурные вырезы и пазы сложны и прихотливы, как извивы нейронов тех, кто их придумал. Жальце ударника сродни осиному.
Ах, как соблазнительно решить все проблемы бытия одним-единственным нажатием, как тянет побывать по ту сторону этого света. Побываем еще… Нелепо покупать билет на поезд, в котором ты уже едешь. Или перебегать в головной вагон, чтобы побыстрее приехать…
* * *
Часы, отпущенные патрульному наряду на обед, летели, как минуты. Неужели не придет? Он ждал Галину и учил на память васильевские строфы:
А улыбка – ведь такая малость!
Но хочу, чтоб вечно улыбалась,
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.
Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Всё в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой»
И шумит вослед за величавой:
«По земле красавица идет».
Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют…
Дверь Иннокентий не запирал, и Галина без стука вошла в номер. Единственное окно на улицу было зашторено, и в комнате стоял мягкий полумрак.
– Инок, я пришла…
Больше он не дал ей сказать ни слова. После затяжного, как парашютный прыжок, поцелуя он расстегнул платье на спине и помог высвободиться из него…
* * *
Красивый город Гродно, но после Москвы все равно провинция. Иногда Иерархову казалось, что он никогда уже не сможет выбраться отсюда и теперь до конца дней своих, то есть до конца срока службы, обречен на прозябание в этом военном суде дивизионного масштаба. От этой мысли хотелось напиться, как говорил его дед, до положения риз. «А как это – ризы положить?» – допытывался маленький Кеша у деда. «Это значит, напиться как библейский Ной, то есть ризы, одежды потерять. Грубо говоря, без порток валяться».
Напился бы, да с кем? В Гродно Иерархов с сослуживцами дружбы не свел. Жил он в старой гостинице, которая при поляках называлась «Кофе в постель» (Kawa do łóżka), а теперь, согласно духу времени, «Звездой». У гостиницы была непростая история. Она строилась как келарский корпус православного монастыря, который еще в прошлом веке перенесли на западный берег Немана, а бывшие кельи стали камерами в следственном изоляторе полицейского околотка. Но после 1920 года полицейский околоток отсюда съехал, изолятор продали в частные руки под гостиницу с игривым названием. Кофе в постель, то бишь в номера, и в самом деле приносила поутру местная «шоколадница» – милая кокетливая Клавдюша, ставшая к началу сороковых бабой Клавой. Она жила при гостинице (ныне офицерской общаге), убирала в номерах, мыла коридор, туалет и окна и еще подрабатывала уборщицей в военном суде. К жильцу 11‐го номера она относилась с большим пиететом и, пожалуй, только ему подавала по старой памяти кофе – приносила медный поднос с фирменной фарфоровой чашечкой (последней уцелевшей с прежних времен) и тарелку с хорошо поджаренным тостом. Иннокентию, конечно же, очень нравился этот обычай, и он при случае старался вручить бабе Клаве червонец. Верная каким-то своим правилам, она не сразу принимала чаевые, отказывалась наотрез, но в итоге деньги оказывались в кармане ее фартука.
Иерархов никуда не ходил и к себе никого не приглашал. Жил анахоретом. Запойно читал книги, благо на первом этаже гостиницы была неплохая библиотека с пятью полками русской классики. К тому же ему попался сборник стихов без обложки. На титуле надпись карандашом: «Павел Васильев. Нечаянная радость русской поэзии. Расстрелян в 1937 году в Лефортово».
Книжка была изъята при обыске у младшего лейтенанта Сурганова и приобщена к делу как образец вредной литературы поэта, осужденного Военной коллегией Верховного суда СССР.
И тут он вспомнил! Февраль 1937 года. Иерархов только начинал свою карьеру в Военной прокуратуре. Его первое следственное дело. И какое дело! Группа террористов готовила покушение на товарища Сталина. Среди них и молодой поэт-красавец Павел Николаевич Васильев, его сверстник – 1910 года рождения, уроженец города Зайсан Семипалатинской губернии, русский, женат, беспартийный, журналист, поэт-литератор.
Едва подследственный вошел в его кабинет, как в унылом лефортовском каземате повеяло степным раздольем, казачьей удалью и полным бесстрашием к тем черным тучам, которые собирались над его пышнокудрой головой. Отвечая на строгие вопросы, он слегка улыбался. Иерархов поглядывал то на строчки протокола, которые убористо вел его помощник – писарь-лейтенант, то на самого подследственного, чье открытое ясное лицо излучало невозмутимое спокойствие.
– Расскажите, как вы собирались уничтожить товарища Сталина?
– Очень просто! – иронично улыбался поэт. – Я хотел выкатить из Кремля Царь-пушку и шарахнуть по трибунам Мавзолея во время парада.
Это было явное издевательство над абсурдностью обвинения, да и над ним, военюристом 3‐го ранга Иерарховым, который, как казалось Васильеву, задавал такие нелепые вопросы. Иннокентий хотел пропустить эту реплику мимо ушей, но писарь-лейтенант уже вписал «показание» в протокол допроса. Подследственному Васильеву взять бы да и не подписывать это идиотское признание, а он подписал все четыре страницы, да еще, как положено, на обороте. Через неделю Иерархова сменил другой, более опытный следователь. Тот быстро закончил столь простое дело «с чистосердечным признанием», которое, как известно, «царица доказательств».
15 июля 1937 года двадцатисемилетний поэт был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в принадлежности к террористической группе, якобы готовившей покушение на Сталина.
Его расстреляли в подвале Лефортовской тюрьмы на следующий день после приговора. Иерархов тогда учился на курсах Военно-юридической академии и ничего не знал о судьбе своего первого подследственного.
ОТВЕТ В КОНЦЕ ЗАДАЧНИКА
Останки Павла Васильева, «нечаянной радости русской поэзии», похоронили в общей могиле «невостребованных прахов» на новом кладбище Донского монастыря в Москве. Потом на Кунцевском кладбище Павлу Васильеву установили кенотаф рядом с могилой его жены Елены Вяловой-Васильевой.
В 1956 году он был посмертно реабилитирован всё той же Военной коллегией Верховного суда СССР. Реабилитирован, но не воскрешен…
Поэта достойно защищал Cергей Залыгин. Большую роль в восстановлении доброго имени, в собирании и подготовке к изданию разрозненного тогда наследия Васильева сыграли его вдова Елена Вялова-Васильева, поэты Павел Вячеславов, Сергей Поделков и Григорий Санников, на свой страх и риск собиравшие и хранившие произведения, в том числе неизданные.