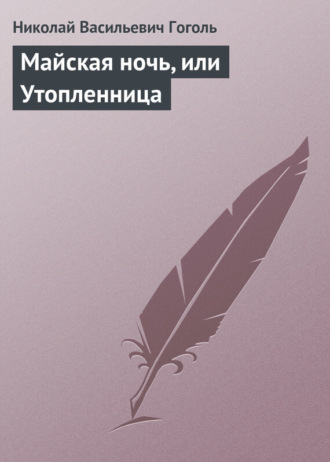
Николай Гоголь
Майская ночь, или Утопленница
Изумлённая не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним.
– Стой! – закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. – Господа! это сатана! – продолжал он. – Огня! живее огня! Не пожалею казённой хаты! Зажигай её, зажигай, чтобы и костей чёртовых не осталось на земле!
Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.
– Что вы, братцы! – говорил винокур. – Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили: от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас всё улажу!
Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать её. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице, громко стала она умолять и разуверять их.
– Постойте, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может быть, это и не сатана, – сказал писарь. – Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не чёрт.
Предложение одобрено.
– Чур меня, сатана! – продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях. – Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь.
Дверь отворили.
– Перекрестись! – сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады.
Свояченица перекрестилась.
– Кой чёрт! Точно, это свояченица!
– Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру?
И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили её хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул: петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.
– Добро ты, одноглазый сатана! – вскричала она, приступив к голове, который попятился назад и всё ещё продолжал её мерять своим глазом. – Я знаю твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за дивчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чём говорил ты сего вечера с Ганною? О! я знаю всё. Меня трудно провесть и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся…
Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. «Нет, тут не на шутку сатана вмешался», – думал он, сильно почёсывая свою макушку.
– Поймали! – вскрикнули вошедшие в это время десятские.
– Кого поймали? – спросил голова.
– Дьявола в вывороченном тулупе.
– Подавайте его! – закричал голова, схватив за руки приведённого пленника. – Вы с ума сошли: да это пьяный Каленик!
– Что за пропасть! в руках наших был, пан голова! – отвечали десятские. – В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дёргать, высовывать языки, вырывать из рук… чёрт с вами!.. И как мы попали на эту ворону вместо его, бог один знает!
– Властью моею и всех мирян даётся повеление, – сказал голова, – изловить сей же миг сего разбойника; а оным образом и всех, кого найдёте на улице, и привесть на расправу ко мне!..
– Помилуй, пан голова! – закричали некоторые, кланяясь в ноги. – Увидел бы ты, какие хари: убей бог нас, и родились и крестились – не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова, перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмётся вылить переполоху.
– Дам я вам переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, верно, держите их руку! Вы бунтовщики? Что это?.. Да, что это?.. Вы заводите разбои!.. Вы… Я донесу комиссару! Сей же час! слышите, сей же час. Бегите, летите птицею! Чтоб я вас… Чтоб вы мне…
Все разбежались.
V. Утопленница
Не беспокоясь ни о чём, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Чёрный тулуп его был расстёгнут. Шапку держал он в руке. Пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Всё было тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась… «Нет, эдак я засну ещё здесь!» – говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним ещё блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда ещё не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нём чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели весёлые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стёкла мелькала позолота. И вот они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своём сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:
Ой, ті, місяцю, мій місяченьку!
I ти, зоре ясна!
Ой, світіть там по подвір’і,
Де дівчина красна[3].
Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы её были полуопущены на глаза. Вся она была бледна как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась… Левко вздрогнул.
– Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню! – тихо молвила она, наклонив свою голову набок и опустив совсем густые ресницы.
– Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?
Слёзы тихо покатились по бледному лицу её.
– Парубок, – говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в её речи. – Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитые шёлком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть… Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от неё покою на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами с щёк моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей её. Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слёз… Найди её, парубок, найди мне мою мачеху!..
Голос её, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слёз покатились по бледному лицу. Какое-то тяжёлое, полное жалости и грусти чувство спёрлось в груди парубка.
Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали лёгкие, как будто тени, девушки в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса.
– Давайте в ворона, давайте играть в ворона! – зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра.
– Кому же быть вороном?
Кинули жребий – и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать её. Лицо, платье – всё на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападений хищного врага.
– Нет, я не хочу быть вороном! – сказала девушка, изнемогая от усталости. – Мне жалко отнимать цыплёнков у бедной матери!
«Ты не ведьма!» – подумал Левко.
– Кто же будет вороном?
Девушки снова собрались кинуть жребий.
– Я буду вороном! – вызвалась одна из средины.
Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело её не так светилось, как у прочих: внутри его виднелось что-то чёрное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы и схватил её, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице её сверкнула злобная радость.
– Ведьма! – сказал он, вдруг указав на неё пальцем и оборотившись к дому.
Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона.
– Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку…
Белая ручка протянулась, лицо её как-то чудно засветилось и засияло… С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и… проснулся.







