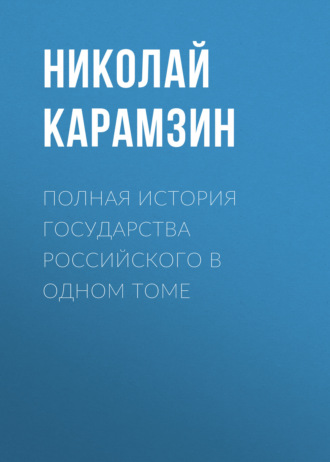
Николай Карамзин
Полная история государства Российского в одном томе
Сей Царь любил и художества: в его время были у нас искусные ювелиры (из коих знаем одного Венециянского, именем Франциска Асцентини), золотари, швеи, живописцы. Шапка, данная Феодором Патриарху Иеремии, украшенная каменьями драгоценными и ликами святых, в описании Арсениева путешествия названа превосходным делом Московских художников. Сей Греческий Епископ видел на стенах Ирининой палаты изящную мусию в изображениях Спасителя, Богоматери, Ангелов, Иерархов, Мучеников, а на своде прекрасно сделанного льва, который держал в зубах змею с висящими на ней богатыми подсвечниками. Арсений с изумлением видел также множество огромных серебряных и золотых сосудов во дворце; одни имели образ зверей: единорога, львов, медведей, оленей; другие образ птиц: пеликанов, лебедей, фазанов, павлинов, и были столь необыкновенной тяжести, что 12 человек едва могли переносить их с места на место. Сии чудные сосуды делались, вероятно, в Москве, по крайней мере некоторые, и самые тяжелые, вылитые из серебра Ливонского, добычи Иоаннова оружия. Искусство золотошвеев, заимствованное нами от Греков, издревле цвело в России, где знатные и богатые люди носили всегда шитую одежду. Феодор желал завести и шелковую фабрику в Москве: Марко Чинопи, вызванный им из Италии, ткал бархаты и парчи в доме, отведенном ему близ Успенского собора. – Размножение церквей умножало число иконописцев: долго писав только образа, мы начали писать и картины, именно в Феодорово Царствование, когда две палаты, Большая Грановитая (памятник Иоанна III) и Золотая Грановитая (сооруженная внуком его) украсились живописью. В первой изображались Господь Саваоф, творение Ангелов и человека, вся история Ветхого и Нового Завета, мнимое разделение вселенной между тремя мнимыми братьями августа Кесаря и действительное разделение нашего древнего отечества между сыновьями Св. Владимира (представленными в митрах, в одеждах камчатных, с оплечьями и с поясами златыми) – Ярослав Великий, Всеволод I, Мономах в Царской утвари, Георгий Долгорукий, Александр Невский, Даниил Московский, Калита, Донской и преемники его до самого Феодора (который, сидя на троне в венце, в порфире с нараменником, в жемчужном ожерелье, с златою цепию на груди, держал в руках скипетр и яблоко Царское; у трона стоял правитель, Борис Годунов, в шапке мурманке, в верхней златой одежде на опашку). В палате Золотой, на своде и стенах, также представлялись Священная и Российская история, вместе с некоторыми аллегорическими лицами добродетелей и пороков, времен года и феноменов природы (весна изображалась отроковицею, лето юношею, осень мужем с сосудом в руке, зима старцем с обнаженными локтями; четыре Ангела с трубами знаменовали четыре ветра). В некоторых картинах, на свитках, слова были писаны связью, или невразумительными чертами, вместо обыкновенных букв. – Золотая палата уже не существует (на ее месте дворец Елисаветин); а на стенах Грановитой давно изглажены все картины, известные нам единственно по описанию очевидцев. – Упомянем также об искусстве литейном: в Феодорово время имели мы славного мастера, Андрея Чехова, коего имя видим на древнейших пушках Кремлевских: на Дробовике (весом в 2400 пуд), Троиле и Аспиде; первая вылита в 1586, а вторая и третья, называемые пищалями, в 1590 году.

А. М. Васнецов. Стена деревянного города над рекой Яузой
Успехи гражданского образования были заметны и в наружном виде столицы. Москва сделалась приятнее для глаз не только новыми каменными зданиями, но и расширением улиц, вымощенных деревом и менее прежнего грязных. Число красивых домов умножилось: их строили обыкновенно из соснового леса, в два или три жилья, с большими крыльцами, с дощатыми свислыми кровлями, а на дворах летние спальни и каменные кладовые. Высота дома и пространство двора означали знатность хозяина. Бедные мещане жили еще в черных избах; у людей избыточных в лучших комнатах были изразчатые печи. Для предупреждения гибельных пожаров чиновники воинские летом ежедневно объезжали город, чтобы везде, по изготовлении кушанья, гасить огонь. Москва – то есть Кремль, Китай, Царев, или Белый город, новый деревянный, Замоскворечье и Дворцовые слободы за Яузою – имели тогда в окружности более двадцати верст. В Кремле считалось 35 каменных церквей, а всех в столице более четырех сот, кроме приделов: колоколов же не менее пяти тысяч – «в часы праздничного звона (пишут иноземцы) люди не могли в разговоре слышать друг друга». Главный колокол, весом в 1000 пуд, висел на деревянной колокольне среди Кремлевской площади: в него звонили, когда Царь ехал в дальний путь или возвращался в столицу, или принимал знаменитых иноземцев. Китай-город, обведенный кирпичною, небеленою стеною, и соединяемый с Замоскворечьем мостами, деревянным, или живым, и каменным, всего более украшался великолепною Готическою церковию Василия Блаженного и Гостиным двором, разделенным на 20 особенных рядов: в одном продавались шелковые ткани, в другом сукна, в третьем серебро, и проч. На Красной площади лежали две огромные пушки. В сей части города находились домы многих Бояр, знатных сановников, Дворян, именитых купцев и богатый арсенал, или Пушечный двор; в Белом городе (названном так от выбеленных стен) Литейный двор (на берегу Неглинной), Посольский, Литовский, Арменский, площади Конская и Сенная, мясной ряд, домы Детей Боярских, людей приказных и купцев; а в деревянном городе, или Скородоме (то есть наскоро выстроенном в 1591 году) жили мещане и ремесленники. Вокруг зданий зеленелись рощи, сады, огороды, луга; у самого дворца косили сено, и три сада Государевы занимали немалое пространство в Кремле. Мельницы – одна на устье Неглинной, другие на Яузе – представляли картину сельскую. Немецкая Слобода не принадлежала к городу, ни Красное Село, где обитали семьсот ремесленников и торгашей, для коих готовила Судьба, к несчастию Борисова семейства, столь важное действие в нашей истории!

Дом боярина Никиты Романова в Москве
В Иоанново и Феодорово Царствование древние обычаи народные, вероятно, мало изменились; но в современных известиях находим некоторые новые подробности относительно к сему любопытному для нас предмету.
Годунов, столь хитрый, столь властолюбивый, не мог или не хотел искоренить местничества Бояр и сановников, которое доходило до крайности непонятной, так что ни одно назначение Воевод, ни одно распределение чиновников для придворной службы в дни торжественные не обходилось без распри и суда. Скажем пример: Москва (в 1591 году) уже слышала топот Ханских коней, а Воеводы еще спорили о старейшинстве и не шли к местам своим. Из любви к мнимой чести не боялись бесчестия истинного: ибо жалобщиков неправых наказывали даже телесно, иногда и без суда: Князя Гвоздева (в 1589 году) за местничество с Князьями Одоевскими высекли батогами и выдали им головою, то есть велели ему уничиженно молить их о прощении. Князя Борятинского за спор с Шереметевым посадили на три дни в темницу: он не смирился; вышел из темницы и не поехал на службу. Чем изъясняется сия странность? Отчасти гордостию, которая естественна человеку и во всяких гражданских обстоятельствах ищет себе предмета; отчасти самою политикою Царей: ибо местничеством жило честолюбие, нужное и в Монархии неограниченной для ревностной службы отечеству. Нет обыкновения, нет предрассудка совершенно бессмысленного в своем начале, хотя вред и превосходит иногда пользу в действии сих вековых обычаев. Годунов же мог иметь и цель особенную, следуя известному злому правилу: раздором властвуй. Сии всегдашие местничества питали взаимную ненависть между знатнейшими родами, Мстиславскими и Шуйскими, Глинскими и Трубецкими, Шереметевыми и Сабуровыми, Куракиными и Шестуновыми. Они враждовали: Борис господствовал!
Но споры о местах не нарушали благочиния на собраниях двора: все утихало, когда Царь являлся в величии разительном для послов иноземных. «Закрыв глаза, пишут очевидцы, всякий сказал бы, что дворец пуст. Сии многочисленные, золотом облитые сановники и безмолвны и недвижимы, сидя на лавках в несколько рядов, от дверей до трона, где стоят Рынды в одежде белой, бархатной или атласной, опушенной горностаем, в высоких белых шапках, с двумя золотыми цепями (крестообразно висящими на груди), с драгоценными секирами, подъятыми на плечо, как бы для удара… Во время торжественных Царских обедов служат 200 или 300 Жильцов, в парчовой одежде, с золотыми цепями на груди, в черных лисьих шапках. Когда Государь сядет (на возвышенном месте, с тремя ступенями, один за трапезою золотою), чиновники-служители низко кланяются ему и по два в ряд идут за кушаньем. Между тем подают водку: на столах нет ничего, кроме хлеба, соли, уксусу, перцу, ножей и ложек; нет ни тарелок, ни салфеток. Приносят вдруг блюд сто и более: каждое, отведанное поваром при Стольнике, вторично отведывается Крайчим в глазах Царя, который сам посылает гостям ломти хлеба, яства, вина, мед и собственною рукою в конце обеда раздает им сушеные Венгерские сливы; всякого гостя отпускают домой еще с целым блюдом мяса или пирогов. Иногда Послы чужеземные обедают и дома с роскошного стола Царского: знатный чиновник едет известить их о сей чести и с ними обедать; 15 или 20 слуг идут вокруг его лошади; стрельцы, богато одетые, несут скатерть, солонки и проч.; другие (человек 200) хлеб, мед и множество блюд, серебряных или золотых, с разными яствами». Чтобы дать понятие о роскоши и лакомстве сего времени, выписываем следующее известие из бумаг Феодорова Царствования: в 1597 году отпускали к столу Австрийского Посла из дворца сытного семь кубков романеи, столько же рейнского, мушкателя, Французского белого, бастру (или Канарского вина), аликанту и мальвазии; 12 ковшей меду вишневого и других лучших; 5 ведер смородинного, можжевелового, черемухового и проч.; 65 ведер малинового, Боярского, Княжего – из кормового дворца 8 блюд лебедей, 8 блюд журавлей с пряным зельем, несколько петухов рассольных с инбирем, куриц бескостных, тетеревей с шафраном, рябчиков с сливами, уток с огурцами, гусей с пшеном срацинским, зайцев в лапше и в репе, мозги лосьи (и проч.), ухи шафранные (белые и черные), кальи лимонные и с огурцами – из дворца хлебенного калачи, пироги с мясом, с сыром и сахаром, блины, оладьи, кисель, сливки, орехи и проч. Цари хотели удивлять чужеземцев изобилием и действительно удивляли.
Древняя Славянская роскошь гостеприимства, известная у нас под коренным Русским именем хлебосольства, оказывалась и в домах частных: для гостей не было скупых хозяев. Зато самый обидный упрек в неблагодарности выражался словами: «ты забыл мою хлеб-соль». – Сие изобилие трапез, долгий сон полдневный и малое движение знатных или богатых людей производили их обыкновенную тучность, вменяемую в достоинство: быть дородным человеком значило иметь право на уважение. Но тучность не мешала им жить лет до осьмидесяти, ста и ста двадцати. Только Двор и Вельможи советовались с иноземными врачами. Феодор имел двух: Марка Ридлея, в 1594 году присланного Английскою Королевою, и Павла, Миланского гражданина: первый жил в Москве пять лет и возвратился в Лондон; о втором в 1595 году писал Генрих IV к Феодору, ласково прося, чтобы Царь отпустил его на старости в Париж к родственникам и друзьям. Сие дружелюбное письмо знаменитейшего из Монархов Франции осталось для нас единственным памятником ее сношений с Россиею в конце XVI века. – На место Ридлея Елисавета прислала к Борису доктора Виллиса, коего испытывал в знаниях Государственный Дьяк Василий Щелкалов, спрашивая, есть ли у него книги и лекарства? каким правилам следует и на пульсе ли основывает свои суждения о болезнях или на состоянии жидкостей в теле? Виллис сказал, что он бросил все книги в Любеке и ехал к нам под именем купца, зная, как в Германии и в других землях не благоприятствуют медикам, едущим в Россию; что лучшая книга у него в голове, а лекарства изготовляются аптекарями, не докторами; что и пульс и состояние жидкостей в болезни равно важны для наблюдателя искусного. Сии ответы казались не весьма удовлетворительными Щелкалову, и Виллиса не старались удержать в Москве. Борис в 1600 году вызвал шесть лекарей из Германии: каждому из них он давал 200 рублей жалованья, сверх поместья, услуги, стола и лошадей; давал им и патенты на сан докторов: сию странную мысль внушил ему Елисаветин посланник Ли, убедив его назвать доктором лекаря Рейтлингера, который с ним приехал служить Царю. Мы имели тогда и разных аптекарей: один из них, Англичанин Френчгам, быв у нас еще в Иоанново время, при Годунове возвратился из Лондона с богатым запасом целебных растений и минералов. Другой, Аренд Клаузенд, Голландец, 40 лет жил в Москве. Но россияне, кроме знатных, не верили аптекам: простые люди обыкновенно лечились вином с истертым в нем порохом, луком или чесноком, а после банею. Они не любили выхухоли в лекарствах и никаких пилюль; особенно не терпели промывательного, так что самая крайность не могла победить их упрямства. – Кто, быв отчаянно болен и соборован маслом, выздоравливал, тот носил уже до смерти черную рясу, подобную Монашеской. Жене его, как пишут, дозволялось будто бы выйти за другого мужа. Мертвых предавали земле до суток; богатых оплакивало, и в доме и на могиле, множество нанимаемых для того женщин, которые вопили нараспев: «тебе ли было оставлять белый свет? не жаловал ли тебя Царь Государь? не имел ли ты богатства и чести, супруги милой и детей любезных?» и проч. Сорочины заключались пиром в доме покойника, и вдова могла, без нарушения пристойности, чрез шесть недель избрать себе нового супруга. – Флетчер уверяет, что в Москве зимою не хоронили мертвых, а вывозили отпетые тела за город в Божий (убогий) дом и там оставляли до весны, когда земля расступалась и можно было без труда копать могилу.
«Россияне (пишет Маржерет), сохраняя еще многие старые обычаи, уже начинают изменяться в некоторых с того времени, как видят у себя иноземцев. Лет за 20 или за 30 пред сим, в случае какого-нибудь несогласия, они говорили друг другу без всяких обиняков, слуга Боярину, Боярин Царю, даже Иоанну Грозному: ты думаешь ложно, говоришь неправду. Ныне менее грубы и знакомятся с учтивостию; однако ж мыслят о чести не так, как мы: например, не терпят поединков и ходят всегда безоружные, в мирное время вооружаясь единственно для дальних путешествий; а в обидах ведаются судом. Тогда наказывают виновного батожьем, в присутствии обиженного и судьи, или денежною пенею, именуемою бесчестьем, соразмерно жалованью истца: кому дают из Царской казны ежегодно 15 рублей, тому и бесчестья 15 рублей, а жене его вдвое: ибо она считается оскорбленною вместе с мужем. За обиду важную секут кнутом на площадях, сажают в темницу, ссылают. Правосудие ни в чем не бывает так строго как в личных оскорблениях и в доказанной клевете. Для самых иноземцев поединок есть в России уголовное преступление».
Женщины, как у древних Греков или у восточных народов, имели особенные комнаты и не скрывались только от ближних родственников или друзей. Знатные ездили зимою в санях, летом в колымагах, а за Царицею (когда она выезжала на богомолье или гулять) верхом, в белых поярковых шляпах, обшитых тафтою телесного цвета, с лентами, золотыми пуговицами и длинными, до плеч висящими кистями. Дома они носили на голове шапочку тафтяную, обыкновенно красную, с шелковым белым повойником или шлыком; сверху для наряда большую парчовую шапку, унизанную жемчугом (а незамужняя или еще бездетная – черную лисью); золотые серьги с изумрудами и яхонтами, ожерелье жемчужное, длинную и широкую одежду из тонкого красного сукна с висящими рукавами, застегнутыми дюжиною золотых пуговиц, и с отложным до половины спины воротником собольим; под сею верхнею одеждою другую, шелковою, называемою летником, с руками, надетыми и до локтя обшитыми парчою; под летником ферезь, застегнутую до земли; на руках запястье, пальца в два шириною, из каменьев драгоценных; сапожки сафьянные, желтые, голубые, вышитые жемчугом, на высоких каблуках: все, молодые и старые, белились, румянились и считали за стыд не расписывать лиц своих.
Между забавами сего времени так описывают любимую Феодорову – медвежий бой: «Охотники Царские, подобно римским гладиаторам, не боятся смерти, увеселяя Государя своим дерзким искусством. Диких медведей, ловимых обыкновенно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное число людей пред феатром, где должно быть поединку, сие место обведено глубоким рвом для безопасности зрителей и для того, чтобы ни зверь, ни охотник не могли уйти друг от друга. Там является смелый боец с рогатиною, и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, ревет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим: смотри, метит – и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногою. Уязвленный, яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своею кровию и пеною, ломит, грызет древко – и если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и Героя ведут к погребам Царским пить за Государево здравие: он счастлив сею единственною наградою или тем, что уцелел от ярости медведя, который в случае неискусства или малых сил бойца, ломая в куски рогатину, зубами и когтями растерзывает его иногда в минуту».
Говоря о страсти Московских жителей к баням, Флетчер всего более удивлялся нечувствительности их к жару и холоду, видя, как они в жестокие морозы выбегали из бань нагие, раскаленные, и кидались в проруби.
Известие сего наблюдателя о тогдашней нравственности россиян не благоприятствовало их самолюбию: как Писатель учтивый, предполагая исключения, он укорял Москвитян лживостию и следствием ее, недоверчивостию беспредельною, изъясняясь так: «Москвитяне никогда не верят словам, ибо никто не верит их слову». Воровство и грабеж, по его сказанию, были часты от множества бродяг и нищих, которые, неотступно требуя милостыни, говорили всякому встречному: «дай мне или убей меня!» Днем они просили, ночью крали или отнимали, так что в темный вечер люди осторожные не выходили из дому. – Флетчер, ревностный слуга Елисаветин, враг западной церкви, несправедливо осуждая и в нашей все то, что сходствовало с уставами Римской, излишно чернит нравы монастырские, но признается, что искренняя набожность господствовала в России.
Угождая ли общему расположению умов или в терзаниях совести надеясь успокоить ее действиями внешнего благочестия, сам Годунов казался весьма набожным: в 1588 году, имея только одного сына – младенца, зимою носил его больного, без всякой предосторожности, в церковь Василия Блаженного и не слушал врачей: младенец умер. Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость: с распущенными волосами ходя по улицам нагой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно злословил Бориса; а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека. Такие юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека укорять в глаза беззаконною жизнию и брать все, им угодное, в лавках без платы: купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов, Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительною смелостию вопил на стогнах о жестоких делах его.
Упрекая россиян суеверием, иноземцы хвалили однако ж их терпимость, которой мы не изменяли со времен Олеговых до Феодоровых и которая в наших летописях остается явлением достопамятным, даже удивительным: ибо чем изъяснить ее? Просвещением ли, которого мы не имели? Истинным ли понятием о существе Веры, о коем спорили и философы и богословы? Равнодушием ли к ее догматам в Государстве искони набожном? Или естественным умом наших древних Князей воинственных, которые хотели тем облегчить для себя завоевания, не тревожа совести побеждаемых, и служили образцом для своих преемников, оставив им в наследие и земли разноверные и мир в землях? То есть назовем ли сию терпимость единственно политическою добродетелию? Во всяком случае она была выгодою для России, облегчив для нас и завоевания и самые успехи в гражданском образовании, для коих мы долженствовали заманивать к себе иноверцев, пособников сего великого дела.
К счастию же нашему, естественные враги России не следовали ее благоразумной системе: Магометане, язычники поклонялись у нас Богу, как хотели; а в Литве неволили Христиан Восточной Церкви быть Папистами: говорим о зачале так называемой унии в Сигизмундово время, происшествии важном своими политическими следствиями, коих не могли ни желать, ни предвидеть ее виновники.
Духовенство Литовское, отвергнув Устав Флорентийский, снова чтило в Константинопольском Первосвятителе Главу своей Церкви: Патриарх Иеремия на возвратном пути из Москвы заехал в Киев, отрешил тамошнего Митрополита Онисифора как двоеженца и на его место посвятил Михаила Рагозу; судил Епископов, наказывал Архимандритов недостойных. Сия строгость произвела неудовольствие; действовали и другие причины: домогательство Папы и воля Королевская, обольщения, угрозы. Еще в 1581 году хитрый иезуит Антоний Поссевин, обманутый не менее хитрым Иоанном с берегов Шелоны писал к Григорию XIII, что для удобнейшего обращения Московских еретиков должно прежде озарить светом истины Киев, колыбель их Веры: советовал ему войти в сношение с Митрополитом и с Епископами Литовскими, послать к ним мужа ученого, благоразумного, который мог бы убеждениями и ласками изготовить торжество Римской Церкви в земле раскола. Антоний писал и действовал: внушил Баторию мысль завести Иезуитское училище в Вильне, чтобы воспитывать там бедных отроков Греческого исповедания в правилах римского; старался о переводе славнейших книг Латинской богословии на язык Российский; сам ревностно проповедовал, и не без успеха, так что многие Литовские Дворяне начали говорить о соединении церквей и благоприятствовать западной, угождая более миру, нежели совести: ибо, не взирая на свои права и вольности, утверждаемые Королями и сеймами, единоверцы наши в Литве долженствовали везде и всегда уступать первенство Католикам; бывали даже теснимы, – жаловались и не находили управы. Колебались умы и самых духовных сановников: ибо Папа и Сигизмунд III, исполняя совет иезуита Антония, с одной стороны, предлагали им выгоды, честь и доходы новые, а с другой, представляли унижение Византийской Церкви под игом Оттоманов. Не грозили насилием и гонением; однако ж, славя счастия единоверия в Государстве, напоминали о неприятностях, которые испытало Духовенство в Литве, отвергнув Устав Флорентийский. Еще Митрополит Рагоза таил свою измену, хвалился усердием к Православию, и велел сказать Московским Послам, ехавшим в Австрию чрез владения Сигизмундовы, что не смеет видеться с ними, будучи в опале, в гонении за твердость в Догматах Восточной Церкви, всеми оставляемой, совершенно беззащитной; что за него стоял один Воевода Новогородский, Федор Скумин, но и тот уже безмолвствует в страхе: что Папа неотменно требует от Короля и Вельмож присоединения Литовских епархий к Церкви Римской и хочет отдать Киевскую Митрополию своему Епископу; что он (Митрополит) должен неминуемо сложить с себя Первосвятительство и заключиться в монастыре. Послы советовали ему быть непреклонным в буре и лучше умереть, нежели предать Святую Паству на расхищение волкам Латинства. Михаил, лукавый и корыстолюбивый, хотел еще в последний раз нашего золота и взял в задаток несколько червонцев: ибо Цари не без хитрости давали милостыню Духовенству Литовскому, чтобы оно питало в народе любовь к своим единоверным братьям. В том же (1595) году сей лицемер, призвав в Киев всех Епископов, усоветовал с ними искать мира и безопасности в недрах Западной Церкви. Только два Святителя, Львовский Гедеон Балабан и Михаил Премышльский, изъявили сопротивление; но их не слушали и к живейшему удовольствию Короля послали Епископов Ипатия Владимирского и Кирилла Луцкого в Рим, где в храмине Ватиканской они торжественно лобызали ногу Климента VIII и предали ему свою Церковь.
Сие происшествие исполнило радости Папу и Кардиналов: славили Бога; честили Послов Духовенства Российского (так назвали Епископов Владимирского и Луцкого, чтобы возвысить торжество Рима); отвели им великолепный дом – и когда, после многих совещаний, все затруднения исчезли; когда Послы обязались клятвою в верном наблюдении Устава Флорентийского, приняв за истину исхождение Св. Духа от Отца и Сына, бытие Чистилища, первенство Епископа Римского, но удерживая древний чин богослужения и язык Славянский – тогда Папа обнял, благословил их с любовию, и Правитель его Думы, Сильвий Антонин, сказал громогласно: «Наконец, чрез 150 лет (после Флорентийского Собора) возвращаетесь вы, о Епископы Российские! к каменю Веры, на коем Христос утвердил Церковь: к горе святой, где сам Всевышний обитать благоизволил; к матери и наставнице всех Церквей, к единой истинной – Римской!» Пели молебны, на память векам внесли в летописи церковные повесть о воссиянии нового света в странах полунощных, вырезали на меди образ Климента VIII, россиянина падающего ниц пред его троном и надпись Латинскую: Ruthenis receptis… Однако ж радость была не долговременна.
Во- первых, Святители Литовские, изменяя православию, надеялись, по обещанию Климентову, заседать в Сенате наравне с Латинским Духовенством, но обманулись: Папа не сдержал слова, от сильного противоречия Епископов Польских, которые не хотели равняться с Униатами. Во-первых, не только Святитель Львовский, Гедеон, со многими другими духовными сановниками, но и некоторые знатнейшие Вельможи, наши единоверцы, воспротивились унии: особенно Воевода Киевский, славный богатством и душевными благородными свойствами, Князь Константин Острожский. Говорили и писали, что сие мнимое соединение двух Вер есть обман; что Митрополит и клевреты его приняли Латинскую, единственно для вида удержав обряды Греческой. Народ волновался; храмы пустели. Чтобы важным, священным действием церковного Собора утишить раздор, все Епископы съехались в Бресте, где присутствовали и Вельможи Королевские, Послы Климента VIII и Патриарха Византийского; но вместо мира усилилась вражда. Собор разделился на две сторон; одна предала анафеме другую – и с сего времени существовали две Церкви в Литве: Униатская, или соединенная, и Благочестивая, или несоединенная. Первая зависела от Рима, вторая от Константинополя. Униатская, под особою защитою Королей и сеймов, усиливалась, гнала благочестивую в ее сиротстве жалостном – и долго стон наших единоверных братьев исчезал в воздухе, не находя ни милосердия, ни справедливости в верховной власти. Так один из сих ревностных Христиан Греческого исповедания торжественно, на сейме, говорил Королю Сигизмунду: «Мы, усердные сыны республики, готовы стоять за ее целость; но можем ли идти на врагов внешних, терзаемые внутренним: злобною униею, которая лишает нас и безопасности гражданской и мира душевного? Можем ли свою кровию гасить пылающие стены отечества, видя дома пламень, никем не гасимый? Везде храмы наши затворены, Священники изгнаны, достояние церковное расхищено; не крестят младенцев, не исповедуют умирающих, не отпевают мертвых и тела их вывозят как стерво в поле. Всех, кто не изменил Вере отцов, удаляют от чинов гражданских; благочестие есть опала; закон не блюдет нас… вопием: не слушают!.. Да прекратится же тиранство! или (о чем не без ужаса помышляем) можем воскликнуть с пророком: суди ми, Боже, и рассуди прю мою!» Сия угроза исполнилась позднее, и мы, в счастливое Царствование Алексия, столь легко приобрели Киев с Малороссиею от насилия Униатов.
Таким образом Иезуит Антоний, Король Сигизмунд и Папа Климент VIII, ревностно действуя в пользу Западной Церкви, невольно содействовали величию России!







