
Николай Коняев
Лилии (сборник)
© Николай Коняев, текст, составление, 2010
© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 2010
Крестное знамение
Откуда-то издалека, из детской глубины памяти, всплывает эта история…
Кто ее рассказывал?
Бабушка?
Мама?
Или, может, кто-то из странников, ночевавших тогда у нас? Сколько их проходило тогда мимо по развороченной, обугленной войною земле…
А история была такая…
Крестьянин услышал в церкви, что Господь Иисус Христос, наш Спаситель, принял мученическую кончину на кресте, и поэтому теперь каждому православному свой крест надобно нести.
И задумался крестьянин, как только русский мужик умеет задумываться, уже ни на что более не отвлекаясь и не беспокоясь более ни о чем.
А обдумавши все, отправился в лес, нашел подходящее дерево и, повалив его, смастерил крест. Потом топор в пенек воткнул, перекрестился и, взвалив крест на плечи, двинулся в путь.
Куда?
А куда глаза глядели…
Тяжел крест, но нести надо, раз взялся…
И долго мужик шел.
Может, неделю, а может – месяц. Главное, что всю оставшуюся жизнь…
А в конце жизни пришел он к монастырю.
Остановился у входа, а войти не может – слишком велик крест оказался, не проходит в ворота.
Предлагали мужику, дескать, сними с плеч крест, разберем его, пронесем через ворота, тогда снова поднимешь на плечи…
– Нет, – отвечал мужик. – Никак нельзя. Невозможно его с плеч снять, покуда до конца не донесу…
Ну, нельзя, так нельзя.
Остался он с крестом за стеною монастыря.
Прошел день и наступила ночь.
Утром пошли монахи в церковь – стоит мужик с крестом за воротами. Никуда не ушел. Дальше ему идти некуда…
Игумен к мужику вышел.
– Так, мол, и так, – говорит. – Не проходит в ворота крест твой. А стену ломать монастырскую не положено. Да и опасно очень – враг приближается… Как без стены оборонимся?
– Не надо ломать… – отвечает мужик. – Я тут постою, пока силы будут…
Прослезился игумен и в келью ушел – молитву творить.
И было ночью видение игумену. Утром собрал он братию и благословил – монастырскую стену разбирать.
Разбирают ее монахи, а стена не в теперешние времена делана, не разбирается никак. Каждый камушек вырубать приходится.
Несколько дней и ночей трудились, пока проломили стену. А только ввели мужика с крестом в монастырь, тут и враги…
Скачут необозримые полчища. Стрелы летят тучами. Сабли сверкают…
Думали монахи, что погибель монастырю наступает. Прямо в пролом мчится вражья конница…
А мужик, едва только вошел в монастырь, слабеть стал, прислонился с крестом к стене, в аккурат пролом им закрыв, перекрестился и помер…
– А враги? – спросил я. – Они ведь в монастырь хотели ворваться!
– Не ворвались… – заверил меня странник. – Никто тот крест сокрушить не смог. Сказывают, что тракторами его тащили, да он не поддался. Немцы танками пытались свалить, а он все равно стоит… И сейчас, сказывают, на том же месте, куда и поставили. Никто, никакая сила не может сдвинуть…
Перекрестился странник, завершая свою историю.
И с этим исчезает он в сумерках детской памяти… Только крестное знамение и осталось от неведомо откуда и неведомо куда шедшего мимо нашего дома по обугленной послевоенной земле странника…
Но и сейчас, через столько лет, закрываешь глаза и видишь, как движется старческая рука, творя это крестное знамение…
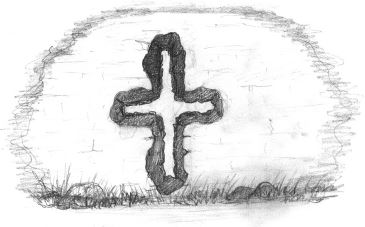
Ночной гость
Первым завял иван-чай, а ромашки еще стояли – горели солнышки в белом ореоле лепестков сквозь поникший и скукожившийся сиреневый мусор… Этот букет, который давно уже пора было выбросить, и увидел я, проснувшись посреди ночи.
Проснулся я от крика, раздавшегося во сне.
Кто-то кричал, кто-то звал меня, но кто? Я не мог вспомнить…
Густая, вязкая тишина стояла в отвыкшем за зиму от человеческих голосов доме, и только сердце тяжело бухало в груди, пытаясь одолеть прорвавшийся сквозь сон крик.
Поднявшись с дивана, я прошел на кухню, вытащил из лежащей на столе пачки сигарету и закурил. В пламени спички на миг потемнело окно, но спичка погасла, и снова окно затянулось сероватым светом белой ночи. За деревьями тускло светилась речная вода.
Крик повторился снова, когда я уже докурил сигарету.
– Ну, куда ты лезешь?! Куда лезешь?! – кричала на улице соседка.
Торопливо натянув штаны и накинув на плечи куртку, я выскочил из дома.
На крылечке соседнего дома, в длинной белой рубахе стояла Вера Лепешкина. А кричала она на мужика, что стоял в помятом пиджаке, в сапогах посреди капустных грядок.
Соседская собака тоже была тут. Молча, без лая, прыгала на мужика, но тот не отбивался от нее, стоял, виновато опустив голову.
– Шарик! – крикнула соседка. – Да отойди ты! Кому говорят! И ты, Иван, иди. Нет здесь никого.
Собака послушно поджала хвост и отбежала в сторону.
– Ступай домой… – повторила соседка. – Не броди тут, Иван, по ночам. Иди с Богом…
Мужик, опустив голову, послушно двинулся прочь. Прошел через огород, открыл калитку и пропал за серым неровным забором, где-то на пустыре.
– Кто это? – закуривая новую сигарету, спросил я.
– Ваня Фершуков… – ответила Вера. – Он капитаном на самоходке ходил… А позапрошлым летом поехал на моторке с семьей. В самое озеро выехавши были, а тут ветер… Волны с баньку величиной пошли, ну и перевернулась, конечно, лодка. Жена и сын потонули. Теперь вот ходит, ищет их, по домам лазает…
– А их тогда так и не удалось спасти? – спросил я.
– Какое там спасение? – вздохнула соседка. – Погода такая страшенная была. Его самого без сознания на берег выкинуло. До сих пор в себя не может прийти…
Она поежилась от прохлады и, вспомнив вдруг, что на ней одна рубашка, торопливо ушла в дом. Слышно было, как брякнула задвигаемая на двери щеколда.
Я посмотрел на часы. Была половина второго. Ночь, чуть-чуть было потемневшая, когда я ложился спать, сделалась как-то просторнее, словно все клубившиеся сумерки успели отстояться в ней. Прозрачной была она сейчас и бесконечно тихой. Густо пахло сиренью.
Вернувшись домой, я лег в постель, но уснуть не смог.
Дом, словно растревоженный ночным криком, был наполнен тихими шорохами, потрескиванием обоев… Казалось, что он тихо ворчит, сам себе жалуется на что-то.
Было время, когда я боялся оставаться в этом доме на ночь в одиночестве.
В тишине звуки разрастались, обретали сходство с голосами людей, казалось, все мои близкие, что жили в этом доме, собираются тут и разговаривают, но о чем? – я не мог разобрать…
В полусне мешались голоса с сонными видениями.
Я забывал в этой полудреме, кто жив, а кто уже давно умер, начинал разговаривать сам, и когда вдруг вспоминал, что говорю с умершей матерью или отцом, сжималось сердце от страха…
Впрочем, это было давно…
Сейчас и захочешь, а не сразу вспомнишь лицо матери, голос отца, сейчас я и сам уже вошел в возраст, в котором родители казались мне пожилыми людьми. Сейчас не так уж много мне самому осталось лет, если мерить по сроку жизней родителей…
Хотя, может быть, дело не только в возрасте.
Просто последнее время потихоньку начинаем мы приобщаться к православной жизни, «воцерковляться», как говорят батюшки, и ночные страхи отступают, рассеиваются…
Задумавшись о своем, я то ли задремал, то ли отвлекся и пропустил момент, когда в потрескивание обоев, в шорохи, доносящиеся с чердака, вплелись другие, какие-то царапающие звуки. Вот – совершенно явственно – задребезжало стекло в боковой комнате, потом – оглушительно громко – заскрипела створка окна.
Я вскочил.
Под руку попалась только кочерга, что стояла возле лежанки. С этой кочергой и вбежал в боковушку.
Темный, заслоняя собою белоночный свет, лез в комнату мужик. Створка была слишком узкой для него, и он застрял, просунув в комнату только плечо и голову. На руке, сжимавшей подоконник, темнел вытатуированый якорек.
Глупейшее положение хозяина дома, наблюдавшего за застрявшим в окне грабителем.
Ударить кочергою по голове?
Вытолкнуть в огород?
– Голубчик… – проговорил я. – Что ты позабыл здесь?
Ситуация была кретинская, а вопрос еще более кретинский. Мужик дернулся так, что зашатался оконный переплет. Я подумал, что мой гость вырвет сейчас его из пазов и вместе с ним рухнет в огород.
– Главное, не волнуйся! – торопливо сказал я. – Не спеши… Поаккуратнее, пожалуйста.
– Ы-ы… – промычал мужик, поднимая лицо. Оно было темным от морщин и загара. Только голубые глаза светились из его сумерек.
– Они здесь?
– Они?! – я наконец-то узнал в своем госте мужика, которого видел час назад в огороде Веры Лепешкиной. – Нет… Здесь никого нет…
– А где же они?
Я пожал плечами. Мне все-таки удалось втащить его в комнату, не поломав раму. Закрыв окно, чтобы не налетели комары, я повел незваного гостя к выходу. Когда мы проходили через кухню, взгляд его задержался на миске с вареной картошкой, что стояла на столе.
– Может, ты есть хочешь? – спросил я.
Сглотнув слюну, он кивнул. Я вытащил из целлофанового пакета хлеб, достал из холодильника недоеденную тушенку и уселся напротив, наблюдая, как ест мой гость.
Ел он неряшливо, жадно, пальцами запихивая в рот неочищенные картошины и обмокнутые в тушенку куски хлеба. При этом он еще и рассказывал что-то.
Он говорил про озеро, про лодку, на которой они плыли, когда налетел ветер… Про церковь, вставшую на озерном берегу. Слова мешались с чавканьем, застревали во рту, с трудом проглатывались вместе с кусками картошки…
Наконец, он наелся. Вытер рукавом пиджака рот и внимательно посмотрел на меня.
– Где же они все? – с болью спросил он. – Мы ведь плыли в одной лодке…
– Ты же сам видел, что здесь никого нет, – вставая, сказал я. – Пошли. Я открою дверь.
Фершуков кивнул и, не возражая, прошел следом за мною на веранду. Вышел в распахнутую дверь.
Уже на улице он остановился.
– Мы же все были в одной лодке… – сказал он.
Здесь, на улице, мне удалось лучше, чем в домашних сумерках, разглядеть его. Исхудавшее морщинистое лицо, порванный, испачканный пиджак болтался на его плечах, как чужой. А в голубых глазах светилось такое горе, что я отвел глаза.
– Иди домой… – сказал я. – Иди…
Уже из окна я видел, как вышел Фершуков на дорогу и, опустив голову, медленно зашагал вдоль реки, в поселок. Я следил за ним, пока он не пропал, заслоненный стоящим на подоконнике букетом, среди скукожившихся, потемневших лепестков которого ярко горели незакатные солнышки ромашек.
Я докурил сигарету и снова улегся в постель. Странно, но это ночное приключение не развеяло сна. Удивляясь этому, я и заснул…
Мне снилось: мы плыли на лодке, когда налетел ветер…
Высокие – под баньку! – пошли волны, захлестывая озерный берег, церковь, вставшую на берегу, само небо…

Лесенки
Еще до войны взорвали у нас в поселке храм Вознесения Господня…
Обломками, с которых и при взрыве не осыпались фрески, замостили топкие места на дорогах, но память, память о храме так и не сумели уничтожить…
Я родился уже после войны, но запомнил, как пекли на сороковой день после Пасхи, на Вознесение Господне, «лесенки».
Это были сухие, как печенье, выпечки, изображающие лесенку с семью ступенями.
Были они необыкновенно хрупки и иногда разваливались, когда их снимали с противня.
«Лесенки» не просто ели. «Лесенками» гадали.
Надо было взобраться на печь и сбросить «лесенку» на пол. Если «лесенка» останется цела, значит, все хорошо. Значит – безгрешный ты человек и спасение для вечной жизни тебе гарантировано…
Если поломается «лесенка», надо посмотреть, на какой ступеньке это произошло… Ну, а коли вдребезги разлетится «лесенка» – беда. Всерьез надо задуматься о грехах, слишком много их накопилось.
Только хрупкими были «лесенки». Не припомню я, чтобы хоть одна уцелела после падения.
– Дак это с печи так падают… – говорила бабушка. – А когда храм стоял, с колокольни бросали. С этакой вышини.
– И что, бабушка? – спрашивали мы. – Наверное, совсем на мелкие кусочки разлетались? И не собрать было?
– По-всякому бывало… – отвечала бабушка. – У некоторых робят и целыми иногда оставались.
– Так, наверно, и пекли тогда иначе… – заступалась за нас мать. – Мука-то была не теперешняя…
– Все тогда не теперешнее было… – отвечала бабушка. – Хоть и в огород выйдешь, а обязательно на храм посмотришь да и перекрестишься…
Неясны, туманны были ее слова о «нетеперешней» жизни…
А сейчас и сами «лесенки» вспоминаются туманно.
Помню только, как собирали мы с крашеного пола кусочки наших разбившихся «лесенок» – бабушка говорила, что надобно обязательно съесть их! – и как-то не по-детски печально было на душе.
Новогодний подарок
– А помнишь… – сказала мне сестра. – Ты ведь уже в школу ходил, а все равно – самый маленький в семье был, вот и приходилось тебе старые вещи донашивать. Некому больше было… И однажды взбунтовался ты. Не буду, говоришь, старое носить, и все! Так тетка-то Маруся тогда к бабке, Анне Тимофеевне, унесла Шуркино пальто перешивать. А когда готово было, пришила на него ярлык с отцовского пальто и принесла домой.
– Колька, – говорит, – я тебе к Новому году в магазине пальто наглядела. Вроде как твоего размера… Я померить взяла, ты прикинь-ка…
– В каком магазине? – спросил ты.
– Да в раймаге ведь… Вон ярлык-то целый… Ты прикинь пальто на себя, если не подойдет, дак назад отнести надо.
Ну, ты ярлык проверил, потом надел пальто.
– Дак что? – тетка Маруся спрашивает. – Будешь носить или в магазин отнести?
– Оставь… – сказал ты.
Двоюродная сестра вспомнила историю, которую помнил и я.
Очень хорошо помнил…
Действительно, в детстве мне приходилось донашивать вещи, которые носили брат и сестра, и меня это возмущало. И брату и сестре время от времени покупали в магазине новое, а мне нет. И ничто не могло поколебать ощущения несправедливости…
Так что случай, про который вспомнила двоюродная сестра, на самом деле был. Только сестра и сама не знала некоторых подробностей.
Я донимал мать, чтобы она купила мне пальто в магазине, а не перешивала пальто, из которого выросла сестра Саша. Но покупать не на что было… Вот мать и придумала этот фокус с ярлыками.
Сестра не знала только, что ярлыки не обманули меня…
Я сразу узнал пальто, которое носила Саша, никакой ярлык не мог помешать этому узнаванию. Просто, когда я понял, чье пальто «купили» мне, я увидел глаза матери – о, как она смотрела на меня тогда! – и слова возмущения застряли комком в горле.
– Оставь! – только и сумел я буркнуть тогда.
Мать облегченно вздохнула, а я потом целый год ходил в этом пальто, и старательно не замечал улыбок, которыми обменивались взрослые, когда мать снова и снова рассказывала при мне, как она «покупала» пальто в раймаге.
Как новое и носил я это пальто.
Однажды даже подрался с приятелем Сашкой Горбуновым, усомнившимся, что мое пальто – покупное…
Впрочем, с Сашкой Горбуновым мы в тот же вечер и помирились.
Как-то все равно нам было, в каких пальто дружить…

Медведь
Вера Сергеевна на лесном озерке медведя встретила.
Он шел по другому берегу озера и тоже, как и Вера Сергеевна, брал ягоды.
И, может, потому что ходил медведь за темной еловой водою, а может, просто потому, что так хорошо она его увидела, но никакого испуга Вера Сергеевна не почувствовала. Перекрестилась и снова нагнулась к усыпанной брусникой кочке.
Время от времени Вера Сергеевна поглядывала на медведя, но тот не уходил никуда, наедался на зиму.
На хорошей ягоде бруснику легко собирать – немного и времени прошло, а уже наполнилась корзинка. Прощаясь, Вера Сергеевна снова на медведя посмотрела, и защемило, защемило сердце от немыслимой красоты Божьего мира.
Проглянувшее солнышко высветило елки, заиграло в озерной воде, а тут еще легкий ветерок пробежал по верхушкам деревьев, и посыпались, посыпались с берез и осинок золотые листья. И хоть и ушло солнце за тучу, но вода в озере, засыпанная золотом листьев, словно бы впитала в себя солнечный свет.
– Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое… – прошептала Вера Сергеевна, и медведь, словно бы почувствовав что-то необыкновенное, остановился, внимательно посмотрел на женщину, а потом покачал тяжелой головой и, переваливаясь, неторопливо пошел по озерному берегу в другую сторону.
1
Из леса Вера Сергеевна как с праздника вернулась. И усталости никакой, и на душе светло, как на озере, когда его осветило проглянувшее солнышко… Даже не удержалась Вера Сергеевна, похвастала соседке Шуре Великановой, что, будто на иконе побывала, так хорошо…
– Где-где? – переспросила Шура.
– На иконе… – сказала Вера Сергеевна. – Медведь ходит рядом, а потом ветерок дунул и так листья посыпались, что золотым сразу все стало… Как на иконе…
– Ага… – сказала Шура. – Медведя увидишь, так не только икона со страха привидится…
– Да я же не про страх говорю, а про то, что на душе светло стало…
– Ягод-то набрала? – думая о своем, спросила Шура.
– Да набрала, набрала… Ягода в этом году хорошая.
– Слышь, Василий? – Шура заглянула в комнату.
– Слышу… – раздался из комнаты недовольный голос шуриного мужа, Василия Егоровича Великанова. – Белая, небось, еще брусника?
– Не, белой и нет почти… – сказала Вера Сергеевна. – В этом году раньше ягода пошла…
– Я говорила, а ему, хоть кол на голове теши… – недовольно проворчала Шура. – Две корзинки от дочери заказаны, так сколько времени, по ягодке собирать будем, когда всю бруснику выберут?
– А сама-то не приедет?
– Да куда ей на восьмом месяце бруснику собирать?
– Наберем… – сказал из комнаты Великанов. – А ты, Сергеевна, чего со мной-то не здороваешься? Или Шурка не пускает?
– Да я на минутку только забежала… – сказала Вера Сергеевна. – Я и не знала, что ты дома.
И, посмотрев на Шуру, заглянула в большую комнату.
2
Василий Егорович за письменным столом у окна сидел, и на тарелке перед ним лежали серые осиные гнезда.
Великанов ломал гнезда над столовой ложкой, а потом растирал в пыльцу и завертывал эту серую пыль в хлебный мякиш.
– Зубы болят? – спросила Вера Сергеевна.
– Всю ночь не спал… Совсем замучили…
– К зубному тебе надо…
– Так в райцентр ведь за день не обернешься… – вздохнул Василий Егорович. – Сама говоришь, что брусника поспела, когда же идти за ней?
– Да, теперь с любой болячкой в райцентр надо ехать… – сочувственно вздохнула Вера Сергеевна, но тут же легко улыбнулась. – А что, Василий, если бы тебе, когда мы по распределению прихали сюда в поселок работать, сказали бы, что ты осинными гнездами зубы лечить будешь, поверил бы?
– Так и ты бы не поверила, что по иконам бродить пойдешь… – улыбнулся и Василий Егорович. – Эх, Веруха-Веруха… Совсем мы тут стариками стали… А ведь давно ли еще на танцы с тобой бегали?
– Ты Вася, шаль-то не вспоминай всякую… – раздался из кухни Шурин голос. – И ты, Вера, не забывай, свой пенсионный возраст…
– С тобою забудешь, Шура… – недовольно проговорил Великанов. – А куда ты, Вера, ягоды-то на озеро ходила брать? К старым вырубкам?
– Не… На Игумновой топи была…
– Это там ты и медведя видела? – Василий Егорович потянулся, взял с подоконника лесхозовскую карту и развернул ее, отыскивая лесное озеро. – Здесь что ли?
– Ага… Вот тут на берегу лесовоз с выбитыми стеклами стоит… А медведь с другой стороны озера и вышел…
– Это он со стороны Чащобы пришел… – задумчиво сказал Василий Егорович, глядя на карту. – Не очень и далеко получается.
3
Вера Сергеевна еще водила почерневшим от ягод пальцем по карте, а сама уже почувствовала, что зря она это рассказывает, поняла, что Василий Егорович – все-таки сорок лет в одной школе проработали, тридцать лет в одном доме бок о бок прожили! – как-то нехорошо задумался.
– Да ты что, Вася? – спросила она, глядя соседу прямо в глаза. – Чего надумал-то?
Василий Егорович – точь-в-точь как в школе, когда она напирала на него! – не сразу ответил.
– Видишь, Сергеевна… – сказал он, отводя глаза.
– У зятя-то лицензия на медведя взята… А куда за ним ехать, не знает… Вот я и подумал…
– Да ты что, Василий Егорович?! – возмутилась Вера Сергеевна. – Я же не для этого рассказывала…
– Ну не ты, другой бы кто рассказал… – сказал Великанов, стараясь не смотреть на Веру Сергеевну.
– Но ведь рассказала-то я… – Вера Сергеевна возвысила голос и он предательски задрожал. – Нет, Вася… Нет! Я не согласна!!!
– Совсем ты Верка, как Николая Петровича не стало, с ума съехала… – перебила ее Шура. – Чего ты медведями тут распоряжаешься? Это что, твой личный медведь, чтобы согласие у тебя спрашивать?! А ты, Василий, не слушай ее… Сейчас прямо и звони Игорю, пока он в другое место не уехал. Зинке вот-вот рожать, а он ведь не успокоится, пока медведя не сыщет…
Василий Егорович кивнул.
– Действительно, Вера… – примирительно сказал он. – Медведи в лесу живут… Права на них у всех одинаковые…
И он решительно взял мобильник. Начал набирать номер.
– Да как вы можете, так?!! – только и смогла выговорить Вера Сергеевна. – Да я…
Слезы хлынули из ее глаз, и она выбежала из великановской половины.
4
Чего в этот день делала Вера Сергеевна она и сама не помнила.
Вроде за водой на реку сбродила, потом затопила плиту, картошку вариться поставила.
Но все это не она, кто-то другой за нее делал, а мысли Веры Сергеевны жили там, на озерке, где, как на иконе в книжке, переваливаясь с боку на бок, бродил между елками медведь.
Уже когда стемнело за окнами, Вера Сергеевна села к столу, на котором распущенная брусника сохла, начала перебирать ягоды.
Слышно было, как за стеной включили Великановы телевизор, но что смотрели, не разобрать было. Зато телефонные звонки Вера Сергеевна хорошо слышала. Раза три звонили и все по межгороду.
Катились пунцовые ягоды, падали в тарелку, оставляя на полотенце налипший лесной мусор, а порой вспыхивали в электрическом свете, слезинкой.
Тогда утирала Вера Сергеевна глаза, вздыхала.
И не услышала даже, как вошел в комнату Василий Егорович.
Сел напротив.
– Ты этого… – сказал. – Ты не бери лишнего-то в голову… Скажи дучше, зять-то завтра с приятелями приедет… Может, тебе с городу чего привезти надо… Не стесняйся…
– Ничего не надо… – сказала Вера Сергеевна и опустила голову, чтобы не видно было слез.
Василий Егорович усмехнулся.
– Расстраиваешься?
– А чего тут расстраиваться… Правильно Шурка-то твоя говорит, что совсем я, когда Николай Петрович мой помер, полоротой стала. Знала ведь, что у вашей Зинки мужик на охоте сдвинулся, могла бы и остеречься…
– Да чего ты медведя-то жалеешь этого?! – досадливо сказал Василий Егорович. – Ну, повезло тебе, мирно встретились, а ведь могло бы и иначе быть… Теперь зато не будешь бояться в лес ходить…
– Дак я ведь и не боюсь, Вася… – сказала Вера Сергеевна, и так сказала, словно позвала на помощь.
Но снова не услышал ее Великанов.
– Ну это ты шальная такая… – проговорил он.
– А другие очень даже опасаются и, между прочим, правильно делают. Ничего хорошего, что медведь так близко к поселку подошел… Это ж не из сказки медведь… Жрет себе и жрет и ни о чем больше у него не думано.
– Не знаю… – сказала Вера Сергеевна. – Только без медведей, Вася, совсем бы мы в Африку превратились.
– При чем тут Африка?!!! – вытаращился на нее Василий Егорович.
– Так в Африке-то медведей нет, вот и не осталось там никого кроме негров… – то ли подумала, то ли сказала вслух Вера Сергеевна.
Василий Егорович, услышав это, едва со стула не свалился – такой хохот на него напал.
– Правильно Шурка говорит, что ты совсем с ума съехала! – сказал он, отсмеявшись. – Чего же без медведей, неграми все станут? А в Европе чего, в культурных странах… Во Франции, например… Ты, что думаешь, там много медведей?
– Так по телевизору-то показывают, что кроме негров и народу другого там тоже немного осталось… – опять то ли подумала, то ли вслух сказала Вера Сергеевна.
– Эх, Веруха-Веруха… – вздохнул Василий Егорович. – Выдумщица была, выдумщицей и осталась…
Он встал и вышел, не прощаясь.
Захлопнулась за ним входная дверь на крылечко.
Вера Сергеевна прокатила по полотенцу еще горстку ягод, потом поставила тарелку с чищенной брусникой на стол и встала.
Надо было закрыть входную дверь и спать ложиться.
В сенях Вера Сергеевна долго смотрела на щеколду на входной двери и все не могла сообразить – щеколда была задвинута! – как же так получилось, неужто приснилось ей, что Василий Егорович приходил?
Странно, конечно… Очень уж явственным сон был, но с другой стороны, чего это она там во сне про медведей и Африку плела?
Этого Вера Сергеевна и сама уже толком не могла вспомнить…
Похоже, что и, впрямь, задремала, перебирая ягоды…
Хотя чего этому удивляться… Такое уже бывало с ней, когда они еще холостыми с Василием Егоровичем гуляли…
Правда, тогда молодыми они были, а теперь, в пенсионном возрасте оба…
Да, спать надо ложиться, а не сидеть заполночь, как раньше за тетрадками сидела.
Не те уже силы…
5
На следующий день к вечеру приехал на джипе из города муж младшей Великанихи с приятелями.
Вера Сергеевна видела, как ходят они по двору, перепоясаные патронташами, с упаковаными, будто музыкальные инструменты, ружьями, и чувствовала как набухает воздух во дворе смертью, и страшно было выйти из дома.
Потом заревел джип, и охотники уехали, но страшное осталось в воздухе и не рассеивалось никуда, только загустевало с ночной темнотой…
И все отчего-то вспоминалась Вере Сергеевне книжка про пионера-героя, которую много лет назад читала она ученикам. Там, в книжке, предатель был, но не настоящий, а просто проговорился по простоте и выдал… Как она сейчас…
Всю ночь с этими мыслями Вера Сергеевна промаялась, а с утра, как страшный сон, потянулся, не кончаясь день, почерневший совсем, когда вернулась компания из леса.
Вера Сергеевна смотрела в окно, как носили охотники на великановскую половину полиэтиленовые мешки с мясом, а потом вытащили из багажника огромную бурую шкуру и, бросив на штабель досок, стали отчищать ее и засыпать солью.
Лица у всех раскраснелись, голоса стали громкими, возбужденными. Даже сквозь закрытое окно было слышно, как пахнет от охотников водкой и кровью.
От этого запаха крови, от пьяных возбужденных голосов совсем худо Вере Сергеевне стало.
Отступила она от окна и, схватившись за буфет, осела на пол.
6
Великанов, что притащил с собой полиэтиленовый пакет с мясом, едва не упал, споткнувшись о нее.
– Ты чего это у меня, Веруха? – поднимая ее, спросил он. – Голову скружило?
– Не-е… – Вера Сергеевна помотала головой. – Запнулась тут да упала…
– Ну ты даешь, девка… – Великанов усадил ее на стул. – Все цело-то? Ничего не поломала?
– Не-е…
– Ну и ладно тогда… А у меня, Веруха, просьба к тебе… Мясо-то в наш холодильник не лезет… Можно у тебя пакет положить до ночи? У тебя морозильная камера большая…
– Положи! – сказала Вера Сергеевна и, накинув жакетку на плечи, вышла на улицу.
Хотела было выйти к реке, но дорогу туда преграждал вставший у соседской калитки джип, и Вера Сергеевна побрела через огород в другую сторону.
Мимо школы вышла на пустырь за домами и зашагала к темнеющему вдалеке лесу…
Шла и не думала, куда идет, не разбирала дороги, и только когда замерцали звезды среди голых ветвей облетающего березняка, остановилась, опустилась на землю.
«Спаси, Господи, люди Твоя!» – пробормотала она и закрыла глаза.
7
Только на следующее утро и нашли ее бышие ученицы, которые пошли за ягодами. Вместо ягод и вытащили на дорогу свою учительницу и отвезли в райцентр, в больницу.
Здесь Веру Сергеевну через неделю навестил Василий Егорович Великанов.
– Ну как ты? – спросил он, раскладывая на тумбочке продукты. – Жить-то будешь?
– Врачи говорят, поживу еще… – слабо улыбнулась Вера Сергеевна. – А ты-то что? Шурка тебя, к зубному отпустила?
– Один я сейчас, Веруха… В город уехала Шурка…
– Погостить?
– Зинка родила у нас…
– Поздравляю… – Вера Сергеевна, действительно, обрадовалась. Младшая Великанова, хоть и шебутной была, а все равно всегда нравилась ей, и когда в школе училась, и когда взрослой стала. – Мальчик? Девочка?
– Не-е… – Великанов покачал головой. – В общем, как ты и говорила тогда…
– Чего это я говорила?! – удивилась Вера Сергеевна.
– Ну это я так, фигурально выражаюсь… – Великанов наклонился к ней. – В общем, в тот вечер, когда Игорька вызвал на медведя, я выпил маленько с расстройства. Ну и хотел к тебе пойти, но сам в кресле оформился и задремал… Вот мне и приснилось, будто ты сказала, что, если Игорь медведя убьет, то негр у них родится…
– Я сказала?! Когда?!!!
– Да во сне, я тебе говорю… В том сне, который мне приснился тогда…
– Ну и что?
– А ничего… Как ты сказала, так и получилось. В общем, негритенок родился у Зинки, вот что…
– Так может она…
– Не-е, не… Она клянется, что никого у нее в то время кроме Игорька не было…
– Может, перепутали тогда ребенка?
– Может и перепутали… – вздохнул Великанов.
– Только, когда я Шурке рассказал про наш разговор во сне, она сказала, что из-за тебя это и случилось…
– Игорь-то как?
– Дак он не видел еще девочки… Ему сказали, что полежать надо Зине… Вот он и ходит каждый день под окна роддома, все спрашивает, чей носик у нее… А чей носик – его, конечно… А глазки? И глазки, дочка говорит, твои… Шурка-то рассказывает, что и в самом деле курносенькая девочка, кареглазая, только черненькая вся… Не знаем, в общем, как и сказать… Шурка мне велела ехать к тебе, гостинцев отвезти…
– А что я… Что я могу?
– Да я это и сказал Шурке… – вздохнул Великанов. – Медведя-то говорю, все равно не вернешь назад…
– Не вернешь… – Вера Сергеевна и сама не заметила, как ее рука легла поверх руки Василия Егоровича. – Не вернешь, Вася…
– Не вернешь… – Василий Егорович чуть сжал ее пальцы.
– Не вернешь…








