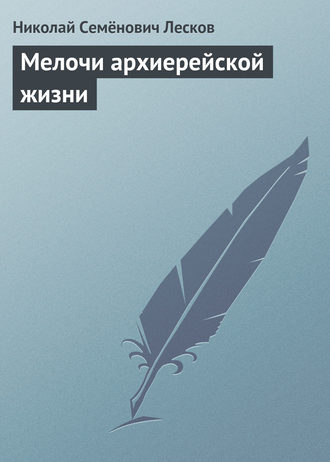
Николай Лесков
Мелочи архиерейской жизни
– У него ведь это все применяется, – говорили советники, – что простецу, что ученому, что духовному, а что военному человеку… Особенно ученым строго; он вон иерея Беллюстина вызвал, посмотрел на него, да опять пешком в Калязин прогнал.
– Господи!.. это черт знает что такое… И что за мысль попа пешком гонять!
– А-а, он ученый, статьи пишет.
– Да хоть бы и какие угодно статьи писал, все же ведь он не скороход или не пехотинец.
– А Голубинского еще хуже: прямо по руке ударил: он к ученым лют.
– Ну а к военным каков, а?
Собеседники плечами пожали и говорят:
– Про военных не знаем; военных, пожалуй, не смеет.
– Ведь не может же он меня заставить идти от Сергия пешком за покаяние – а? что? Я его не послушаю: сяду, да и уеду… что?
– Да, конечно нет: не смеет.
– Еще бы! пускай попов гоняет, а я не поп.
На самом же деле все это приводило генерала в большую нервность, и он, волнуясь, кипятился и попеременно призывал то бога, то черта, не зная, к кому плотнее пристать.
– Господи, что такое!.. черт бы все это драл… С коронованной особой, кажется, легче бы объясниться!
Но малый советник, до беседы с которым генерал не напрасно унизился, вывел его на хороший путь: он присоветовал генералу «сочинить» к владыке письмо и «поискательнее» просить его высокопреосвященство дозволить представиться по нужному делу, «когда он прикажет». И при всех этих варварских фразах о сочинении, искательности и приказании особенно настаивал, чтобы последняя фраза была употреблена в точности.
– А то иначе, – говорит, – он прошепчет секретарю: «напиши, я готов выслушать», а когда и где – опять не доберетесь. Нет, уж лучше пусть «прикажет».
Генерал, в досаде, уже ни за что не стоял и готов был испросить себе и «приказание», но только «сочинять» ему не хотелось.
– Сделайте милость, – говорит, – черт бы все это побрал… Господи! напишите, пожалуйста, как это по-вашему нужно, я все подпишу.
– Нет, – говорят, – тут нельзя «подписать», а надо своею рукою написать, или переписать, да еще почище – хорошенько.
– Да у меня, – говорит, – почерк скверный.
– Надо постараться.
– Ах ты господи!.. ну да черт с ними, со всеми этими делами; сочините мне, пожалуйста, я перепишу.
И он сдержал свое слово – переписал. Он взял черновое домой и хотя вначале сильно его критиковал и называл «хамским», но дома переписал его сполна и очень хорошо: буквы были все аккуратно дописаны, строчки прямы, – очевидно, выведены по транспаранту, а внизу подпись со всяким почтением, покорною преданностью, поручением себя отеческому вниманию и архипастырским молитвам и просьбою о его владычном благословении. Словом, сделано как подобает.
Письмо, в видах наибольшой аттенции, а может быть, и ради вернейшего получения скорого ответа, послано не по почте, а с нарочным, из сорока тысяч курьеров, готовых скакать во все стороны по манию каждого начальника в России.
Ждут ответа. Ждет сам генерал, поминая то бога, то черта. Ждут и его подчиненные, которым казалось, что он им уже «протоптал голову вдоволь».
Здесь среди этих форменных людей, в которых, несмотря на всю строгость их служебного уряда, все-таки билось своим боем настоящее «истинно русское сердце», шли только тишком сметки на свойском жаргоне: «как тот нашего: вздрючит, или взъефантулит, или пришпандорит?»
Слова эти, имеющие неясное значение для профанов, – для посвященных людей содержат не только определительную точность и полноту, но и удивительно широкий масштаб. Самые разнообразные начальственные взыскания, начиная от «окрика» и «головомойки» и оканчивая не практикуемыми ныне «изутием сапога» и «выволочки», – все они, несмотря на бесконечную разницу оттенков и нюансов, опытными людьми прямо зачисляются к соответственной категории, и что составляет не более как «вздрючку», то уже не занесут к «взъефантулке» или «пришпандорке». Это нигде не писано законом, но преданием блюдется до такой степени чинно и бесспорно, что когда с упразднением «выволочки» и «изутия» вышел в обычай более сообразный с мягкостью века «выгон на ять – голубей гонять», то чины не обманулись, и это мероприятие ими прямо было отнесено к самой тяжкой категории, то есть к «взъефантулке». Владыка, однако, не мог же иметь такого влияния, чтобы «сверзнуть» генерала или сделать ему другую какую-нибудь неприятность, а он просто его не более как «вздрючит», но, конечно, в лучшем виде.
Посол возвратился на другие сутки. Ему довелось переночевать у Сергия, но зато он привез ясный ответ на словах, что его высокопреосвященство может принять генерала.
– Когда же?
– Когда угодно.
– Я поеду завтра.
Так и решено было ехать завтра.
Генерала проводили, и когда поезд отъехал, то, смеясь в кулак, проговорили:
– Напрасно ты, брат, перемены белья с собой не захватил.
Между тем, ко всеобщему удивлению, генерал возвратился в Москву раньше вечера и был очень жив, скор и весел. Он тотчас же поспешил успокоить генерал-губернатора, что они с митрополитом объяснились, и дело это теперь кончено.
– Я доказал ему, что я прав, и он согласился и просил вам кланяться.
Тот был доволен, но подчиненные, которым никак не хотелось такого окончания, не верили, чтобы дело обошлось без вздрючки. Краткое сказание: «я доказал ему, что я прав, и он согласился», малодушным людям казалось как-то неподходящим. Выходило это как-то очень уж кратко и не имело на себе, так сказать, никакого облика живой правды. Как он это доказывал, что поп дурно служил и дьячки нехорошо пели? Разве попа и дьячков туда тоже выписывали? Нет, этого не было и не могло быть, во-первых, потому, что это дало бы делу такое положение, что митрополит все-таки придал какое-нибудь значение письму генерала, а во-вторых, этого не могло быть просто потому, что владыка не знал, когда прискачет к нему генерал с своим объяснением. Не мог же он содержать при себе упомянутого попа и дьячков, про всякий случай, по вся дни. Да и все это было бы совсем не по-филаретовски. Нет, молодшие люди имели крепкое подозрение, что генерал митрополиту ничего не доказывал, потому что ему еще никто никогда не доказал ничего такого, чтό он сам не хотел считать доказанным, а просто генерал вытерпел у него неприятную минуту, но как ею кончается вся эта долгая возня, то он и рад, и опять прыгает и носится. А доказать мирополиту нельзя, – нельзя потому, что он такие дарования и способы имеет – сразу самого доказательстного человека взять и отсадить от его доказательств. И отсадить в самый дальний угол, где тот даже и сам себя не сразу узнает.
И вот эти-то приемы его очень интересны, как он это выведет так, что прав – неправ, а сказать нечего. И все это непременно было с генералом, но как же это было? как владыка его вздрючил и как тот извивался? Это положили узнать. А взялся за это некто близкий по своим связям с какою-то «профессориею», а та профессория знала еще кого-то, через которого доходили прямо до самого близкого человека. И, когда весь этот порядок был ловко и ухищренно пройден, то результат превзошел все ожидания.
Вот верное сказание о том, как объяснялся генерал с митрополитом.
Владыка, зазвав гостя в отдаленные Палестины, был внимателен к его приезду и не заставил его ожидать. Пожаловал генерал, доложили митрополиту, он и вышел: по обычаю своему не велик, нарочито худ, а из глаз, яко мнилося, «семь умов светит».
Разговор у них вышел недолгий и, все объяснение, до которого генерал достиг с таким досадительным трудом, свертелося вкратце.
– Чем позволите служить? – начал шепотом владыка.
Генерал отвечал обстоятельно.
– Так и так, ваше преосвященство, я был случайно месяц тому назад в такой-то церкви и слышал служение… оно шло очень дурно, и даже, смею сказать, соблазнительно, особенно пение… даже совсем не православное. Я думал сделать вам угодное – довести об этом до вашего сведения, и написал вам письмо.
– Помню.
– Вы изволили отослать это письмо для чего-то к генерал-губернатору, но ничего не изволили сказать, что вам угодно, и мы в затруднении.
– О чем?
– Насчет этого письма, оно здесь со мною.
Генерал пустил палец за борт и вынул оттуда свое письмо. Митрополит посмотрел на него и сказал:
– Позвольте!
Тот подал.
Филарет одним глазом перечитывал письмо, как будто он забыл его содержание или только теперь хотел его усвоить, и, наконец, проговорил вслух следующие слова из этого письма:
– «Пение совершенно не православное».
– Уверяю вас, ваше высокопреосвященство.
– А вы знаете православное пение?
– Как же, владыка.
– Запойте же мне на восьмой глас: «Господи, воззвах к тебе».
Генерал смешался.
– То есть… ваше высокопреосвященство… Это чтобы я запел.
– Ну да… на восьмой глас.
– Я петь не умею.
– Не умеете; да вы, может быть, еще и гласов не знаете?
– Да – я и гласов не знаю.
Владыка поднял голову и проговорил:
– А тоже мнения свои о православии подаете! Вот вам ваше письмо и прошу кланяться от меня генерал-губернатору.
С этим он слегка поклонился и вышел, а генерал, опять спрятав свое историческое письмо, поехал в Москву, и притом в очень хорошем расположении духа: так ли, не так ли, противная докука с этим письмом все-таки кончилась, а мысль заставить его, в его блестящем мундире, петь в митрополичьей зале на восьмой глас «Господи, воззвах к тебе, услыши мя» казалась ему до такой степени оригинальною и смешною, что он отворачивался к окну вагона и от души смеялся, представляя себе в уме, что бы это было, если бы эту уморительную штуку узнали друзья, знакомые и особенно дамы? Это очень легко могло дойти до Петербурга, а там какой-нибудь анекдотист расскажет ради чьего-нибудь развлечения и шутя сделает тебя гороховым шутом восьмого гласа.
И он не раз говорил «спасибо» митрополиту за то, что при этом хоть никого не было.
Но, однако, как «нет тайны, которая не сделалась бы явною», то нерушимое слово Писания и здесь оправдалось. Вскоре же все в Москве могли видеть независтную гравюрку, которая изображала следующее: стоит хиленький старичок в колпачке, а перед ним служит на задних лапах огромнейший пудель и держит на себя в зубах хлыст. А старец ему говорит:
«Служи (собачья кличка), но на мой двор не смей лаять. А то я заставлю тебя визжать на восьмой голос».
Такова или сей подобна была подпись под картинкою, которая вначале показалась многим совсем неостроумною и даже бессмысленною; а потом, когда разведали, в чем тут соль, тогда уже немногие экземпляры картинки сделались в большой ценности.
Когда именно, в каких городах и при каких правительственных лицах имело место это происшествие, – не знаю. Филарет Дроздов на московской кафедре пропустил мимо себя не одного генерал-губернатора, а полицейских генералов еще более, но сказание это надо считать несомненно верным, потому что о нем мне и другим приходилось слышать от нескольких основательных людей, да и картинка тоже даром появиться не могла.
Глава пятнадцатая
Был кавалерийский генерал Яшвиль. Он умер после окончания последней турецкой войны, которую тоже делал. Это был замечательный человек по складу ума, складу привычек и складу фигуры; он же обладал и красноречием, притом таким, какому в наше стереотипное время нет подобного. Он был человек большой, сутуловатый, нескладный и неопрятный. Лицо имел самое некрасивое, монгольского типа, хотя происходил из татар. По службе считался хорошим генералом и шел в повышения, но в отношении образованности был очень своеобразен: литература для него не существовала, светских людей он терпеть не мог и на этом основании избегал даже родственников по жениной линии. Особенно же не любил балов и собраний, на которых притом и не умел себя вести. Рассказывали случай, что однажды, подойдя к вазам с вареньем, он преспокойно выбрал себе пальцами самую приглядную ягоду, пальцами же положил ее себе в рот и отошел от стола, не обращая ни на кого внимания. Быть с ним в обществе одни считали мучением, другие же хотя и переносили его, но более ради того, чтобы за ним подмечать его «деликатности». Но в своем в военном деле он был молодец, хотя тоже все с экивоками. Подчиненные его ни любили, ни не любили, потому что сближение с ним было невозможно, а солдаты его звали «татарином». Но мы имеем дело только до его красноречия.
Военное красноречие генерала Яшвиля, как выше сказано, было оригинально и пользовалось широкою и вполне заслуженною известностью. Оно и в самом деле, как сейчас убедится читатель, имело очень редкие достоинства. У меня есть один образец речей этого военного оратора – притом образец наилучший, ибо то, что я передам, было сказано при обстоятельствах, особенно возбуждавших дух и талант генерала Яшвиля, а он хорошо говорил только тогда, когда бывал потрясен или чем-нибудь взволнован.
Генерал Яшвиль занимал очень видное место в армии. У него было много подчиненных немелкого чина, и особенно один такой был в числе полковых командиров, некто Т., человек с большими светскими связями, что Яшвиля к таким людям не располагало.
Неизвестно, каких он любил, но таких положительно не любил.
Была весна. – Хорошее время года, а тем больше на юге. Генерал предпринял служебное путешествие с целью осмотреть свои «части». Он ехал запросто и с одним адъютантом.
Приехали в город, где стоял полк Т., и в тот же день была назначена «выводка».
Дело происходило, разумеется, на открытом месте, невдалеке за конюшнями. Офицеры стоят в отдалении – на обозревательном пункте только трое: генерал Яшвиль, у правого его плеча – его адъютант, а слева, рядом с ним, полковой командир Т.
Выводят первый эскадрон: лошади очень худы.
Яшвиль только подвигал губами и посмотрел через плечо на адъютанта.
Тот приложил почтительно руку к фуражке и общей миной и легким движением плеч отвечал, что «видит и разумеет».
Выводят второй эскадрон – еще хуже.
Генерал опять полковому командиру – ни слова, но опять оглядывается на адъютанта и на этот раз уже не довольствуется мимикой, а говорит:
– Одры!
Адъютант приложился в знак согласия.
Полковник, разумеется, как на иголках, и когда вывели третий эскадрон, где лошади были еще худее, он не выдержал, приложился и говорит:
– Это удивительно, ваше сиятельство… никак их нельзя здесь ввести в тело…
Яшвиль молчал.
– Я уже, – продолжал полковник, – пробовал их кормить и сечкою и даже… морковь…
При слове «морковь», в смысле наилучшего или целебного корма для лошадей, генералу показалось, что это идет как будто из Вольного экономического общества или другого какого-нибудь подобного оскорбительного учреждения, и генерал долее не выдержал. Его тяжелый, но своеобразный юмор и красноречие начали действовать – он обернулся снова к командиру и сказал:
– Морковь… это так… А я вам еще вот что, полковник, посоветую: попробуйте-ка вы их овсом покормить.
И с этим он повернулся и ушел, не желая смотреть остальных «одров», но назавтра утром назначил смотреть езду. Лег он недовольный и встал недовольный, а при езде пошли такие же неудовлетворительности. Генерал и закипел и пошел все переезжать с места на место – что у него выражало самую большую гневность, которой надо было вылиться в каком-нибудь соответственном поступке: изругать кого, за пуговицу подергать или же пустить такой цвет красноречия, который забыть нельзя будет.
Дела пошли так, что командир сам подал ему повод к последнему, и живой дар генерала начал действовать.
Как вчера полковник пустил себе на выручку морковь, так теперь он хотел найти оправдание в молодости эскадронных командиров. Генералу всякого повода к речам было довольно, а этого даже с излишком. Услыхав, что вся беда в том, что молоды офицеры, – он отскочил на своей лошади в сторону, сделал свою обыкновенную в гневном времени гримасу и страшным громовым голосом, долетавшим при расстановках до последнего фурштата, заорал:
– Вздор говорить изволите!.. Что это еще за манера друг на друга ссылаться-я-я!.. Полковой командир должен быть за все в ответе-е-е! Вы развраты этакие затевае-те-е-е-е!.. По-о-лко-вой командир на эскадронных!.. А эскадронные станут на взводных. А… взво-одные на вахмистров, а вахмистры на солдат… А солдат-ты на господа бога!.. А господь бог скажет: «Врете вы, мерзавцы, – я вам не конюх, чтобы ваших лошадей выезжать: сами выезжайте!»
Это было начало и конец краткой, но, как мне кажется, очень энергической речи. Генерал уехал, а офицеры долго еще были в недоумении: как же это возможно, до чего стал доходить в своем гневе Яшвиль? Особенно этим был поражен один молодой офицер из немцев, у которого хранились добрые задатки религиозных чувств. Ему казалось, что после такой выходки Яшвиля он, как христианин, не может более оставаться на службе под его начальством.
Он думал об этом всю ночь и утром, чисто одевшись, поехал потихоньку к архиерею, чтобы ему, как самому просвещенному духовному лицу в городе, рассказать все о вчерашней речи и просить его мнения об этом поступке.
Архиерей принял и терпеливо выслушал корнета, но с особенным вниманием слушал воспроизведение офицером на память генеральской речи. И по мере того как офицер, передавая генеральские слова, все возвышал голос и дошел до «господа бога», то архиерей, быстро встав, взял офицера за обе руки и проговорил:
– Видите, как прекрасно! И как после этого не сожалеть, что духовное ораторство у нас не так свободно, как военное! Почему же мы не можем говорить так вразумительно? Отчего бы на текст «просящему дай» так же кратко не сказать слушателям: «Не говори, алчная душа, что „Бог подаст“. Бог тебе не ключник и не ларешник, а сам подавай…» Поверьте, это многим было бы более понятно, чем риторическое пустословие, которого никто и слушать не хочет.
Глава шестнадцатая
К сказанному не излишним будет прибавить о том, как иные из наших владык внимательны к политике, литературе, новым открытиям и проч. Хороший материал для этого мы имеем в «Списке рукописей, пожертвованных его высокопреосвященством митрополитом Исидором в библиотеку С.-Петербургской духовной академии». Об этом митрополичьем даре было довольно говорено газетами в свое время, – причем было объяснено, что подаренные рукописи не могут быть предметом исследования и критики по жизнь их жертвователя. Но и самое содержание рукописей, даже по заглавиям, оставалось до сих пор неизвестным, хотя это, с одной стороны, очень интересно, а с другой – нимало не нарушает условий жертвователя, ибо не может быть почитаемо за разработку. Поэтому, встретив редкий список (отлитографированный только в числе пятидесяти экземпляров), я не захотел расстаться с ним, не сделав из него небольших выписок, которые, мне кажется, должны заинтересовать любителей русской давней и недавней старины. Должны они быть любопытны также и для таких людей, которым небезынтересно само лицо дарителя.
Вот из чего, судя по списку, состоит, между прочим, дар митрополита Исидора Петербургской духовной академии:
Уроки профессора академии архимандрита Иннокентия (архиепископа херсонского) по общему богословию – 293 л.
Его же, уроки по догматическому богословию – 188 л.
Его же, уроки по практическому богословию – 327 л.
Его же, учение о таинствах церкви – 139 л. (Возможно думать, что это те самые знаменитые лекции, которыми когда-то хвалились слушатели Иннокентия. Их ждали видеть в собрании сочинений этого автора, но этому что-то помешало.)
Сорок шесть писем князя Голицына к архимандриту Фотию и двенадцать писем к графине А. А. Орловой-Чесменской. (Материал никогда не ослабевающего интереса.)
Донесение Нила, архиепископа ярославского, в св. синод о чудесном поднятии крышки у раки преподобного Сильвестра Обнорского, с просьбою совета по этому случаю и разрешения крестного хода и канонизации службы святому. (Вдвойне интересный материал, как по самому чудесному происшествию с поднимающейся крышкою, так и по отношению к этому делу знаменитого в своем роде архиепископа Нила – автора исследования «О буддизме».)
Краткое изложение хранящихся в Белогородском монастыре подлинных записок о чудотворениях Иоасафа. (По народной молве, усопший Иоасаф Горленко есть тот очередной святой, мощи которого должны быть открыты первыми после мощей преподобного Тихона Задонского. Отсюда понятно, какой интерес для церкви должно сосредоточивать в себе это «изложение».)
Донесение Христофора, высокопреосвященного вологодского, о необыкновенном приключении с крестьянкою-девицею Агафьею, – летаргическом сне, принятом за чудо.
Ответное письмо протоиерея Иосифа Васильева на вопросы, предложенные ему графом Павлом Дмитриевичем N. по поводу присоединения аббата Гетте. (Снова интереснейшее обстоятельство, в оценке которого до сих пор нет чего-то самого важного.)
Рассказ дедушки Алексея Васильевича Первого, почти современника св. Тихона, о некоторых частных фактах из жизни св. Тихона.
Оправдательное письмо М. П. Погодина к министру народного просвещения по поводу признания его статьи во 2 № газеты «Парус» неблагонамеренною и прекращения издания.
Сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови.
Мнение председателя цензурного управления о распространении у нас брошюры о непорочном зачатии девы Марии (1830 года).
Список сочинениям богословского и отчасти политического содержания, привезенным из Варшавы в 1833 и 1834 годах.
Приказ новороссийского генерал-губернатора жителям, называемым духоборцами, о возвращении в лоно православной церкви или о переселении в другие места жительства.
Судебный допрос некоторых из сектантов «Общей» секты (из молокан).
О сектаторе Лукьяне Петрове – писано собственноручно митрополитом Исидором.
Донесение подполковника Граббе о новопоявившейся секте, отвергающей храмы, посты, праздники, таинства и не признающей власти. (Это особенно интересно в том отношении, что, по мнению людей, знающих толк в русских ересях и расколах, у нас нет ни одной секты, которая бы «не признавала властей», что, впрочем, и невозможно для христианина какого бы то ни было толка.)
Мысли о народе, называемом ингилайцами, которых предки были христиане.
Сведения о Евангелиях, записанные (митрополитом Исидором) после разговора с сыном владетельного князя Сванетии Мих. Дадишкилиани.
Высшая администрация русской церкви, сочинение архиепископа Агафангела – о незаконности и ошибочности принципов, положенных в основании церковно-администра-тивных учреждений. (Это тот самый архиепископ, который один решился открыто противодействовать церковно-судебной реформе, как ее проводил обер-прокурор гр. Д. А. Толстой.)
О влиянии светской власти на дела церковные.
Продолжение сочинения архиепископа Агафангела: в чем должно состоять высшее управление отечественной церкви. (Эти труды преосвященного Агафангела непременно должны быть подвергнуты обстоятельной критике, так как автор их, при отличавшей его односторонности, был, однако, знаток этого еще не успокоившегося вопроса, и, – что не часто случается с духовными писателями нашего времени, – он, будучи архиереем, в последние годы своей жизни говорил прямо и откровенно, не преклоняясь ни семо, ни овамо.)
Записка обер-прокурора синода графа А. П. Толстого о подчинении церкви контролю в хозяйственном отношении. Писано собственноручно митрополитом Исидором.
Рассмотрение записки под заглавием «Вдовство священников». (Самый больной вопрос вдовствующих клириков.)
Отношение обер-прокурора графа Д. А. Толстого к митрополиту Исидору о назначении последнего членом комиссии по вопросу о порядке разрешения жалоб на решения св. синода по делам, подлежащим его ведению. (Жалобы на синод, единолично приносимые митрополиту, состоящему членом того же самого синода!.. Невозможно уразуметь: какой это должно обозначать порядок?)
Записка «по вопросу возражений (!) на предположенное учреждение в Петербурге православного братства».
Выписка из отношения министра внутренних дел о неудобстве вышеуказанного братства.
Выписка из отношения главного начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии о неудобстве того же братства. (Все эти три документа получают особенный интерес ввиду нынешнего протестантского настроения общества, при котором союзы православных уже дозволяются, но, быть может, уже несколько поздно.)
Письмо нантского епископа Жаконэ к протоиерею Иос. Васильеву по вопросу о зависимости русской церкви от императора.
О тождестве бежавшего в Нью-Йорк иеродиакона Агапия с автором (какого-то) письма. Подробные сведения об иеромонахе Агапии.
Секретное донесение архиерею рядового С. Кулышева о заказе ему типографского станка для печатания противоправительственных сочинений и о снабжении его неизвестными ему лицами сочинениями такого же характера: «Что нужно народу», «О сокращении расходов царского величества» и т. п. (Это дело, интересное само по себе, не менее интересно в том отношении: почему солдат, которому сделали упомянутый заказ, обратился с своим доносом не к гражданским властям и не к жандармскому офицеру, а к местному епископу? Все это возбуждает интерес к личному составу властей, которые тогда правили в Перми.)
«Объяснение с публикой». Программа действий революционного кружка.
О влиянии светской власти на дела церковные.
«Тайна», или секретная апология архимандрита Фотия императору Александру I (рукопись на 158 л.).
Письмо протоиерея М. Ф. Раевского (из Вены) к митрополиту Исидору по поводу замеченного сближения сербских и болгарских воспитанников в Киеве с поляками и о вредных следствиях этого сближения (М. Ф. Раевский, наш венский священник, которому приписывают много политических дел между славянскою молодежью, – лицо, небезынтересное на краткий час для историка, а быть может, еще более для сатирика. О. Раевский был обильно прославляем за тонкость, что до сих пор и составляет самую выступающую черту его священства.)
Славянофилы на Востоке.
Письмо архимандрита Леонида о духовном состоянии русских богомольцев в Иерусалиме.
Письмо с препровождением жесткой статьи одной греческой газеты против вселенского патриарха.
Донесение подробное о болгарском вопросе.
Письмо посланника французского по поводу брака его слуги.
Письмо Тишендорфа с препровождением его труда VII édition de Nouveau Testament.[32]
Письмо его величества императора русского к султану турецкому о венгерских мятежниках, бежавших в Турцию.
Речь государя Николая Павловича к епископам польским и русским, приглашенным из Польши в Петербург. Писано собственноручно митрополитом Исидором.
Изложение некоторых обстоятельств, обнаруживающих невыгодное отношение закубанцев к русскому правительству. Писано собственноручно митрополитом Исидором.
Последствия неблагоразумного управления генерала Пулло и особенно генерала Засса – восстание чеченцев, черкесов, бегство многих в горы, даже таких, которые более пятидесяти лет были верны русскому правительству. Писано высокопреосвященным Исидором.
Стихотворение Кукольника в виду Крымской войны.
Письмо генерала Муравьева к генералу Ермолову из крепости Грозной о положении края и мысли о началах управления.
О чрезмерной жадности греческого духовенства и симонии (1860 г.).
Заметка, содержащая недовольство кавказцев, особенно войска, на письмо Муравьева к Ермолову. Писано высокопреосвященным Исидором.
Особенно замечательные случаи действия благодати божией чрез митрополита московского Филарета, бывшие при его жизни. (Известно, что на надгробии митрополита Филарета Дроздова выставлено «св.» или «свят.» – это в сокращении должно выражать святитель, но как народ мало употребляет слово «святитель» и оно ему не приходит в голову, то большинством это неудачное сокращение признается за сокращение слова «святой». Для других же, каковы, например, наши спириты, почти повсеместно чествующие митрополита Филарета Дроздова, – неловкость в сокращении здесь признается за «знак воли божией», которая таким проявлением предупредила замедляющуюся канонизацию покойного. По народным толкованиям, которые так не так надо считать мнениями, прежде Филарета могут быть открыты мощи только одного Иоасафа белогородского, а почивающий в Киево-Печерской лавре Павел, епископ тобольский (Конюшкевич), должен уступить свой ряд Филарету и стать на дальнейшую очередь. В одном Новгороде только надеются, что прежде всех должны быть открыты мощи Фотия, но этому будто сильно мешает то, что нельзя различить: от кого идут чудеса – от Фотия или от почивающей с ним рядом графини Орловой? Отличить это трудно, потому что чудеса совершаются при обоих гробах, стоящих рядом, а разъединить их – нельзя, и потому надо ждать особого знамения, которого и ждут. Впрочем, сильное распространение в последние годы Св. Писания, обратившее внимание простонародья от людей, о которых им много натолковано, прямо ко Христу, – о котором они до сих пор были только слегка наслышаны, – до того сильно изменило религиозное настроение русских умов, что в спорах о канонизации новых святых замечается гораздо менее страстности. Мысль о Христе начинает преобладать даже над почивающими в сребропозлащенных гробах Фотия и его послушной графини.)
Много писем митрополита Филарета Дроздова, из коих некоторые писаны по общеинтересным вопросам, а два приводят в некоторое недоумение. Это, во-первых, не письмо, а «список с отношения к московскому генерал-губернатору по поводу слуха, что в церквах Москвы читается особая молитва об избавлении от того положения, в котором она находится». А второе письмо «о незаконном, причиняющем соблазн действовании духовного цензора в Петербурге». (Первое, вероятно, относится к тому времени после закрытия библейского общества, когда прозорливым умам казалось кстати поприсмотреть за митрополитом Филаретом, – как бы он, при окружавшем его народном уважении, не воспользовался этим и не «воздвиг чего-нибудь через церковь». Это чрезвычайно интересно уже потому, что мысль о возможности такого поступка долго не оставляла многих людей самого первого сорта.)
Легко может быть, что не лишены общего исторического интереса и другие нумера этого митрополичьего дара, которые мы здесь не поименовали единственно потому, что заглавия их показались нам менее интересными. Но, кроме ценности, какую имеет весь этот дар сам по себе, он очень дорог и для характеристики самого дарителя. Жизнь наших владык течет так «прикровенно», что едва о некоторых из них можно узнать и сберечь для истории что-нибудь образное и живое. В древности их жизнеописания были похожи более на жития, а позже стали походить на послужные списки, из которых ничего или почти ничего не извлечешь для истории. Не больше того усматриваем и в самых поздних некрологах, где уже, впрочем, стали иногда на что-то намекать. Был больше суров или меньше суров владыко, постился ли он и молился больше или меньше – и в этом почти все. Исключения очень редки, но и эти исключения не обильны фактами. Биографии даже таких людей, как Платон Левшин, Евгений Болховитинов и Иннокентий Борисов, скудны: нет в них именно тех мелочей жизни, в которых человек наиболее познается как живой человек, а не формулярный заместитель уряда – чиновник, который был, да и умер, а потом будет другой на его место – все равно какой. Правильно и основательно говоря, надо сознаться, что русские своих архиереев совсем не знают: в городе с владыкой знакомы некоторые власти, среди коих не всегда находятся люди самые теплые к вере, да духовенство, у которого отношение к архиерею особое. Народ же совсем архиерея не знает, да им и не интересуется, потому что ему давно стало «все равно», что делается в церкви, и он выразил это в присловии: «нам что ни поп, тот и батька» (это у наших лицемеров и ханжей называется «богоучрежденным порядком»). Между тем в числе наших архиереев есть люди замечательного ума и иногда удивительного сердца. (Припомним архиепископа Димитрия Муретова и состоящего не у дел епископа Ф.) Знать о таких и им подобных людях возбудительнее, чем читать иные старые сказания, риторическая ложь которых давно обличена и не перестает обличать себя во всяком слове. Чтобы изолгавшиеся христопродавцы не укорили нас в легкомыслии и «подрывании основ», скажем, что это не наша мысль или не исключительно наша: мы встречаем ее, например, даже у Эбрарда (Апологетика, перевод протоиерея Заркевича 1880 г., стр. 598). «Если предложить вопрос о том, что служит доказательством (христианства), то это доказательство можно заимствовать собственно не из истории христианских обществ, а исключительно только из жизнеописаний частных лиц в христианстве, в которых Евангелие проявило себя как силу Божию». А где же, кажется, и искать бы проявлений этой силы, как не между теми, которые первенствуют в церкви? И вот тут-то, как нарочно, и приложена превосходно кем-то подмеченная манера «манервирования» святителей, то есть манера представлять их получившими все совершенства, не возрастая и не укрепляясь, – они будто так прямо и являются полными всех добродетелей «от сосцу матерне». Некоторые из них даже не сосали по средам и пятницам материнской груди… Результат этого перед нами налицо…







