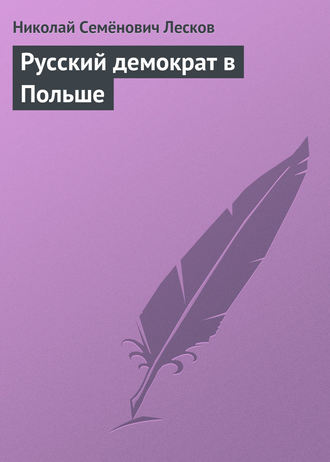
Николай Лесков
Русский демократ в Польше
Лахтин отозвался:
– Это правда!
– Да как же не правда! – продолжал Самбурский. – Пока молод да легкомыслен, он и в восторге: его занимает, что и шпоры звенят, и эполеты блестят, а как с летами в разум начнет приходить, так, ведь, – сделайте вашу милость… мишура-то слетит и очень горько станет.
– Ропщут, – молвил Лахтин.
– Да; ропщут, но очень мало ропщут, – отвечал, продолжая материю, Самбурский: – удивительные люди, – праведники. Иной бы, поди, какого шума наделал и целый бы век все визжал, а наш с сердцов за чаркой зелена вина где-нибудь выругается, а потом завьет горе веревочкой, да так всю жизнь с обрывком и ходит. Только не дергай его за этот узелок, потому что у него тут больное место завязано. Все, все простить ему надо, и даже свечку поставить. Служил как следует, сколько раз его могли убить и изувечить, а другой, может быть, и изувечен, а между тем, война кончится, состав войск введется на мирное положение, и тысячи этих отставных слуг отечества идут в заштат. Разумеется, это в порядке вещей, да смотреть-то на них жалко в этом положении. Хорошо, который куда-нибудь на частную должность примкнет к откупу, или к какой конторе… Разумеется, не особенно высокоблагородно, но, по крайней мере, спрятан от когтей нужды и питается; а то на выдумки идут: янтарьки продают, просьбы по постоялым дворам пишут, в трактирах фокусы показывают, – всего и не перечтешь.
– И не дай бог, – вставил Лахтин.
– Именно, не дай бог, а между тем в таком печальном исходе совсем нет никакой необходимости. Если об этом хорошенько подумать, то есть даже средство не только оказать оторванным от мирных занятий военным людям справедливость, но выставить прямо отечество благодарным к своим слугам, – и в то же время за один прием достигнуть высшего государственного плана – пресечь возможность повторения беспокойной аристократической крамолы. Вот в чем дело: вам, как и мне, известно количество казенных и конфискованных магнатских земель на Литве и в юго-западном крае. Казне они не принесут дохода, – все съест администрация. По-моему, выгоднее будет отдать их в частные руки. Я сообразил и расчел, что из них можно накрошить двадцать пять тысяч небольших помещичьих имений, из которых каждое может приносить от пяти до шести тысяч годового дохода.
– Я думаю, вы не ошиблись, – сказал Лахтин.
– Расчет мною сделан верно. Необходимо только, чтобы все эти земли явились в трудолюбивых руках, и именно в руках воинов, поработавших для водворения здесь русского владычества. Офицеры в правах и в истории малосведущи, но они хорошо знают, чего им стоило усмирить разыгравшийся здесь мятеж, и потому оценят все настоящим образом, без фантазии. Притом же это будет им справедливым вознаграждением, за которое они будут благодарны правительству и усугубят свою преданность. А чтобы и казна своего не теряла – даром ничего давать не нужно, даровое всегда слабо ценится. А надо благоразумно перевести эти земли из непроизводительного казенного управления в частные руки, и для этого есть средства. Стоит только образовать банк или другое какое кредитное учреждение с специальною целью помочь приобретению этих земель русскими воинами на льготных для выплаты условиях, и цель эта будет вполне достигнута. А когда на двадцати пяти тысячах мест станут двадцать пять тысяч русских помещичьих домиков, да в них перед окнами на балкончиках задымятся двадцать пять тысяч самоваров и поедет сосед к соседу с семейством на тройках, заложенных по-русски, с валдайским колокольчиком под дутою, да с бубенцами, а на козлах отставной денщик в тверском шлыке с павлиньими перьями заведет: «Не одну во поле дороженьку», так это будет уже не Литва и не Велико-Польша, а Россия. Единоверное нам крестьянское население как заслышит пыхтенье наших веселых тульских толстопузиков и расстилающийся от них дым отечества, – сразу поймет, кто здесь настоящие хозяева, да и поляки увидят, что это не шутка и не «збуйство да здрайство», как они называют наши нынешние военные нашествия и стоянки, а это тихое, хозяйственное заселение на всегдашние времена, и дело с восстаниями будет покончено.
Лахтин вскричал:
– Это великолепно!
– Вы одобряете?
– Великолепно. Иван Фомич, великолепно!
А мы, – хотя нас не спрашивали, – под влиянием пропекшего нас горячего чувства, все встали, поклонились Ивану Фомичу и без уговора сказали ему:
– Бог в помощь! Бог в помощь!
Он откланялся нам жестом руки и сказал:
– От души благодарю, господа, – ваше сочувствие мне дорого и дай бог, чтобы наше – как вижу – общее желание исполнилось ко благу нашей родины. А чтобы не оставаться долго на этот счет в томительной нерешимости, – я сейчас отправлюсь к фельдмаршалу и сейчас же представлю ему мою мысль.
Он встал, перекрестился, сказал: «Господи благослови!» – и вышел.
Мы, провожая его глазами, желали ему удачи. И хотя все это происходило в канцелярии, где торжественных минут сердечного восхищения по штатам не полагается, но тут оно было. Мы чувствовали, как сердца наши в нас горели, при мысли, что целые двадцать пять тысяч семейств наших военных трудников разведут себе по домам и на полянках свои самовары и станут попаривать своим чайком свои косточки, под своею же кровлею, которую дало им за их кровную службу отечество.
Конечно, может быть, теперь за это кто-нибудь и осудит, но надо было быть ближе к тому времени, которого это касается, и видеть воочию мужественных людей, судьбу которых по отставке просто и трогательно нам вспомянул Иван Фомич. Тогда станет понятно то чувство, какое мы испытывали, и оно было действительно патриотическое чувство, хотя и родилось в канцелярии.







