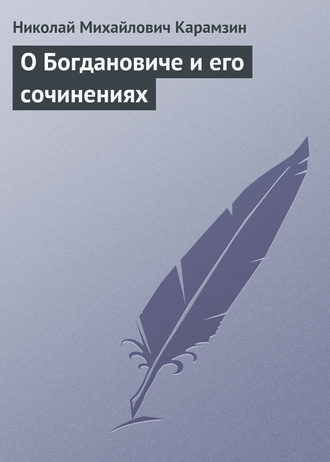
Николай Карамзин
О Богдановиче и его сочинениях
В доказательство, что поэты, вопреки старинному злословию, умеют быть иногда скромными, и француз и русский не хотели описать первого свидания Душеньки с Амуром. Последний отделался от читателей приятною шуткою, говоря, что эта сцена осталась навеки тайною между супругами…
Но только поутру приметили амуры,
Что нимфы меж собой смеялись подтишком,
И гостья, будучи стыдлива от натуры,
Казалась между их с завешенным ушком.
В изображении палат с их драгоценностями я люблю статую Душеньки…
Смотря на образ сей, она сама дивилась;
Другая статуя казалась в ней тогда,
Какой не видывал никто и никогда.
Черта прекрасная! Взята с французского («elle demeura longtemps immobile, et parut la plus belle statue de ces lieux»[18]); но, выраженная в стихах, более нравится… Люблю также разные живописные изображения Душеньки:
В одном она, с щитом престрашным на груди,
Палладой нарядясь, грозит на лошади,
И боле, чем копьем, своим прекрасным взором.
В другом видим перед нею Сатурна, который
Старается забыть, что он давнишний дед,
Прямит свой дряхлый стан, желает быть моложе,
Кудрит оставшие волос своих клочки
И, видеть Душеньку, вздевает он очки.
А там она видна, подобней царице,
С амурами вокруг, в воздушной колеснице,
Прекрасной Душеньки за честь и красоту
Амуры там сердца стреляют на лету;
Летят великою толпою;
Летят, поднявши лук, на целый свет войною;
А там свирепый Марс, рушитель мирных прав,
Увидев Душеньку, являет тихий нрав,
Полей не обагряет кровью
И наконец, забыв военный свой устав.
Смягчен у ног ее, пылает к ней любовью.
На третьей картине Зефир списывает с нее портрет; но, боясь нескромности,
Скрывает в списке он большую часть красот;
И многие из них, конечно, чудесами,
Пред Душенькою вдруг тогда писались сами.
Всего же более люблю обращение поэта к красавице:
Во всех ты, Душенька, нарядах хороша:
По образу ль какой царицы ты одета,
Пастушкою ли где сидишь у шалаша,
Во всех ты чудо света;
Во всех являешься прекрасным божеством —
И только ты одна прекраснее портрета.
Просто и так мило, что, может быть, никакое другое место в «Душеньке» не делает в читателе столь приятного впечатления. Всякому хочется сказать сии нежные, прекрасные стихи той женщине, которая ему всех других любезнее; а последний стих можно назвать золотым. – Мы не пеняем автору, что он не хочет далее описывать Купидонова дворца,
Где все пленяло взгляд
И было бесподобно;
Но всюду там умом
Я Душеньку встречаю,
Прельщаюсь и потом
Палаты забываю.
Но с палатами стихотворец забыл и хозяина; забыл, между портретами, упомянуть об его изображениях. Скрываясь от Душеньки, Амур должен был показаться ей хотя на картине. Лафонтен представил на обоях разные чудеса Купидоновы: например, ужасный хаос, приводимый его рукою в стройность…
Que fait l'Amour? Volant de bout en bout,
Ce jeune enfant, sans beaucoup de mystère.
En badinant vous débrouille le tout,
Mille fois mieux qu'un sage[19].
Как бы хорошо мог Богданович сказать это в русских стихах! Как бы хорошо мог, следуя Лафонтену, описать приступы любопытной Душеньки к невидимому Амуру и его отговорки, столь остроумные! «Nécessairement je suis Dieu ou je suis Démon. Si vous trouvez que je suis Démon, vous cesserez de m'aimer ou du moins vous ne m'aimerez plus avec tant d'ardeur: car il s'en faut bien qu'on aime les Dieux aussi violemment que les hommes»[20]. Но поэт наш, как поэт, не любил закона и принуждения; хотел брать не все хорошее в образце своем, а что слегка и само собою попадалось ему в глаза —
Любя свободу я мою,
Как вздумается мне, пою.
Довольно, что Богданович, проходя иногда мимо красот Лафонтеновых, щедро заменял их собственными и разнообразными. Умея быть нежным, забавным, он умел и колоть – даже кровных своих, то есть стихотворцев. Вводя Душеньку в Амурову библиотеку, он говорит:
Царевна там взяла читать стихи;
Но их читаючи как будто за грехи,
Узнала в первый раз мучительную скуку
И, бросив их под стол, при том зашибла руку.







