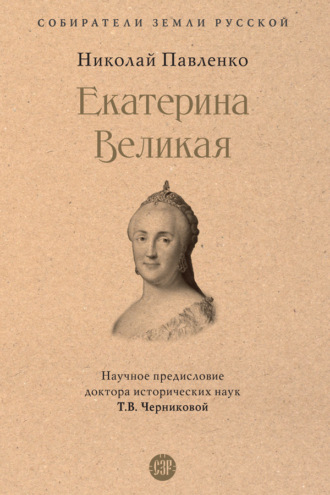
Николай Павленко
Екатерина Великая
Лишь новое расследование дела убедило императрицу в том, что служебное рвение Глебова наносит ущерб ее престижу и урон трону, и она отстранила его от должности. Уволенный Глебов 20 февраля 1764 года подал императрице письмо, претендующее на исповедь. В нем Глебов поведал, как он по совету П. И. Шувалова женился на вдове Чоглоковой, как он терпел нужду в деньгах, побудившую его заняться откупами. Однако в письме ни слова не говорилось о том, что он покрывал преступления Крылова и что ради своекорыстных интересов попирал законы. Екатерина оставила послание без ответа, ибо не обнаружила в нем раскаяния за содеянное. Это видно из ее «Наставления» назначенному вместо Глебова генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу Вяземскому, которое начинается фразами, осуждающими Глебова: «Прежнее худое поведение, корыстолюбие и лихоимство и худая вследствие сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и искренности против меня нынешнего генерал-прокурора, все сие принуждает меня его сменить и совершенно помрачает и уничтожает его способность и прилежание к делам…»[67]

Неизвестный гравер. Фонтанка у императорского
сада в Петербурге. XVIII в.
Императрице были доподлинно известны достоинства и недостатки Глебова, но она по привычке уклоняться от резких оценок и характеристик не решилась на подлинную оценку генерал-прокурора даже в секретнейшем документе. В тексте, не предназначавшемся для печати, который публикаторы озаглавили «Портреты нескольких министров», императрица писала: «У Глебова очень большие способности, соединенные с равным прилежанием; это олицетворенная находчивость, но он плут и мошенник, способный однако на большую привязанность.
Жаль, что он молодым попал в руки Петра Шувалова, по образцу которого он и сформировался, он слишком тверд, чтобы можно надеяться, что бы изменится, только его личный интерес может его заставить измениться, это все, на что можно надеяться»[68].
Несмотря на суровую оценку служебной карьеры А. И. Глебова, он не подвергся каре, которую заслуживал. 3 февраля 1764 года Глебов был уволен со службы с присвоением чина генерал-поручика, но с запрещением занимать правительственную должность. С него велено было взыскать убытки, причиненные иркутянам. Внес ли он их – неизвестно. В опале Глебов находился десять лет, в апреле 1773 года был вновь принят на службу, участвовал в суде над Пугачевым, в 1774 году назначен смоленским наместником, но затем вновь оказался под судом. Ничем закончились и преследования Крылова. По указу, его велено было вместо заслуженной им смертной казни «высечь в Иркутске кнутом и сослать на каторгу в работы вечно, а имение его, описав, продать с аукциона и взятые за оное деньги употребить на раздачи обиженным, кому что принадлежит в силу законов». Указ не был исполнен, Крылов не понес наказания, и купцы никакой компенсации не получили.
Так называемая иркутская история повлекла не только смену генерал-прокурора, но и дала повод императрице выступить в роли законодательницы – в 1764 году она сочинила «Наставление» вновь назначенному прокурору А. А. Вяземскому. Значение этого документа выходит за рамки определения обязанностей данного должностного лица. По сути, документ с полным основанием можно отнести к разряду программных актов императрицы, наметивших задачи царствования на ближайшие годы.
От генерал-прокурора Екатерина требовала преданности и честности: «Я весьма люблю правду, – прокламировала свою позицию императрица, – и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против мене без всякого опасения, лишь бы только то благо произвело в деле». И еще одно пожелание автора «Наставления» – она не требует от генерал-прокурора «ласкательства», то есть подхалимства, «но единственно чистосердечного обхождения и твердости в делах».
По мнению императрицы, генерал-прокурор должен стоять выше существовавших в Сенате группировок, каждая из которых будет стараться привлечь его на свою сторону, и ко всем относиться одинаково беспристрастно. Екатерина призывала остерегаться как «раболепства» вельмож, от которого страдают интересы государства, так и обмана канцелярских служителей, всегда готовых в угоду начальству приукрасить истинное положение дел. Верность и честность будут вознаграждены: «а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам».
Выше отмечалась покорность духовенства, как должное принявшего изъятие у себя имущества. Лишь очень немногие встали на защиту церковного, архиерейского и монастырского землевладения. Среди них выделялся голос Арсения Мацеевича.
Когда вчитываешься в отраженные источниками перипетии борьбы Арсения за сохранение церковью ее земельных владений и крестьян, то вспоминаются события вековой давности, развернувшиеся вокруг патриарха Никона и протопопа Аввакума. Здесь находим тот же фанатизм, несгибаемую волю в борьбе за свои идеи и то же неумение соразмерить свои силы и возможности с силами противоборствующей стороны. Более того, упорство Арсения выглядело безрассудным и обреченным, поскольку силы сторон оказались еще более несоизмеримыми, чем столетие назад – тогда светская власть лишь двигалась к абсолютизму, теперь абсолютная монархия утвердилась и окрепла; тогда существовало патриаршество, теперь церковными делами командовал послушный светской власти Синод, низведенный до обычного правительственного учреждения; тогда события приобрели значение трагедии и имели огромный резонанс не только внутри страны, но и за ее пределами – теперь они выглядели фарсом (по крайней мере, им пыталась придать такой оттенок императрица) и оставили малозаметный след в истории.
Непокорный нрав, неуживчивый и властный характер Арсений Мацеевич (1697–1772) проявил еще в юные годы – его беспокойная и мятущаяся натура заставляла его то и дело менять место службы и место жительства: он учился в Киевской академии, не закончив ее, оказался в Новгород-Северском Спасском монастыре, затем Чернигов, вновь Киев, Устюг Великий, Холмогоры, Соловецкий монастырь, Камчатская экспедиция 1734–1737 годов. В 1741 году он был посвящен в сан митрополита и поставлен во главе Тобольской епархии. В Сибири Арсений тоже долго не задержался. Похоже, он успокоился лишь после того, как в 1742 году получил архиерейскую кафедру в Ростове, которую занимал свыше двух десятилетий[69].
В первые же годы пребывания в Ростове Мацеевич вступил в конфликт с вышестоящими духовными властями, но тогда ему все сошло с рук: набожная императрица Елизавета Петровна относилась к нему снисходительно и даже благосклонно. Так, Арсений позволял резкие выпады против Коллегии экономии, оспаривая ее постановления. Когда в 1742 году Коллегия экономии прислала в Ростовский Авраамиев монастырь на содержание отставного солдата, Арсений резко отозвался об этой акции Коллегии, предварительно не осведомившейся, «есть ли в епаршеских монастырях порожние порции». Ход мыслей был оскорбителен для коллежских чинов: «У кого удобнее из порций убавить и дать солдату: у бедного ли монаха или у коллежского члена, которому и сверх жалованья из монастырей везут немало?»
В том же году Арсений вновь отказался принять партию инвалидов и на жалобу Коллегии экономии Сенату ответил последнему «поносительными словами». От неприятностей Мацеевича спасло опять заступничество Елизаветы Петровны. Арсений решил более не испытывать судьбу и стал проситься на покой, но императрица отказала в просьбе. При Екатерине Арсений воспрянул духом и всерьез воспринял обещание императрицы не отбирать имения у духовенства. Но последовавшие затем практические меры развеяли радужные надежды. Неведомыми каналами Мацеевичу стало известно отношение комиссии к церковному землевладению, и он, очертя голову, ринулся в бой. Уже 9 февраля 1763 года в Ростовском соборе Арсений совершил вызывающий обряд отлучения не только тех, «кто встанет на церкви Божии», но и их крамольных советников. Проклятию подлежали также все, кто покушался на церковные имения.
Тем самым Арсений встал на путь открытой схватки с церковными иерархами, сидевшими в Синоде, и самой Екатериной. 6 марта того же года он отправил в Синод доношение с напоминанием обещания императрицы поднять скипетр в защиту «нашего православного закона». Заявлением, что даже при татарском иге церковное землевладение оставалось неприкосновенным, Арсений бросил вызов как духовной, так и светской власти. Протестовал ростовский митрополит и против навязываемой государственной властью обязанности монастырей содержать «всякие науки»: философию, богословие, астрономию, математику. Он соглашался лишь на содержание монастырями начальной школы.
Одновременно с официальным донесением Синоду Арсений решил оказать влияние на императрицу через приближенных к ней лиц – он отправил письмо симпатизировавшему ему А. П. Бестужеву-Рюмину и давнему своему приятелю духовнику Дубенскому. Бестужев замолвил словечко в защиту Арсения, но, получив от императрицы резкую отповедь, решил ей более не докучать. Екатерина писала: «Я чаю ни при котором государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем Синодом митрополита ростовского». Она напомнила, что в прошлом даже за менее серьезные прегрешения «преосвященным головы секли», и что она, несмотря на свое милосердие и человеколюбие, обязана наказать нарушителя «тишины и благоденствия народа».
Синод 12 марта направил императрице доклад с осуждением доношения Арсения. «Оно клонится, – писалось в докладе, – к оскорблению ее императорского величества, за что Арсений подлежит великому осуждению». Однако Синод не осмелился определить меру «великого осуждения» и возложил эту обязанность на императрицу. Екатерина, хотя и обнаружила в докладе Синода «превратные и возмутительные толкования Священного писания» Арсением, а также его посягательство на спокойствие подданных, но, стремясь прослыть гуманной и имея возможность проявить милосердие, поручила определить наказание Синоду. Тот без промедления отправил в Ростов офицера с командой, поручив ему доставить митрополита Арсения в Москву, где в это время находился двор.
Между тем Арсений, не осведомленный о том, сколь неблагоприятные для него события последовали после первого доношения, отправил второе. В нем он восхвалял Елизавету Петровну за упразднение Коллегии экономии, писал об оскудении храмов и исчезновении церковного благолепия после секуляризации. Заканчивалось донесение просьбой уволить его на покой по причине одолевших его недугов. Вместо покоя Арсению довелось испытать множество тяжелейших испытаний.
В связи с доставкой Арсения в Москву Екатерина писала генерал-прокурору А. И. Глебову: «Нынешнюю ночь привезли враля, которого исповедывать должно: приезжай ужо ко мне, он здесь во дворце будет»[70].
Разговор состоялся в присутствии Екатерины, но Арсений позволил себе столь непочтительно отзываться об императрице, что та заткнула уши и велела закрыть рот Арсения кляпом.

Портрет Екатерины II в меховой шапке.
Неизвестный художник. 1767.
Государственный Русский музей
Враждебное отношение императрицы к ростовскому митрополиту не подлежит сомнению. Истоки этой враждебности следует искать не только в посланиях Арсения, но и в нелестных отзывах его об императрице, которые он высказывал окружению и которые стали ей известны. Митрополит в числе прочего говаривал об отсутствии у Екатерины прав на престол. В изложении самой императрицы упреки Арсения выглядят так: «де величество наше неприродная и в законе нетверда и не надлежало бы ей престола принимать, но следовало бы Ивану Антоновичу».
Суд над митрополитом начался 1 апреля 1763 года, а спустя неделю, 7 апреля, Синод направил императрице приговор: «архиерейства и клобука его лишить и сослать в отдаленный монастырь под крепкое смотрение и ни бумаги, ни чернил не давать там». Приговор Синода дал Екатерине повод проявить милосердие. По сути, она оставила его без изменений, сохранив за Арсением лишь монашеский чин, что освобождало его от гражданского суда и возможности истязаний.
Синод назначил Арсению местом ссылки Ферапонтов монастырь – тот самый, где столетием раньше находился в заточении неукротимый патриарх Никон. В Синоде состоялась церемония лишения митрополита сана: его привели туда в архиерейском облачении, а вывели в простой монашеской одежде, усадили в колымагу и тут же тронулись в путь. Офицер, сопровождавший опального, в пути получил новый указ – местом ссылки был определен не Ферапонтов, а более отдаленный Корельский Никольский монастырь Архангелогородской губернии. На пропитание ему положили 50 копеек в день, причем три дня в неделю его велено было использовать на черных работах: колоть дрова, мыть полы, носить воду.
Императрица, торжествуя победу, все же чувствовала себя неловко. Это видно из ее письма к Вольтеру, в котором Екатерина пыталась изобразить себя в более благородном свете, а митрополита, наоборот, – в неприглядном, представив дело так, будто бы он воскрешает идею Никона о двоевластии. Екатерина извещала Вольтера, что Арсений, «фанатик, виновный в замысле, противном как православной вере, так и верховной власти, лишен сана и священства и передан в руки светского начальства. Я простила его, удовольствовавшись тем, что перевела его в монашеское звание». В этой информации множество неточностей – императрица зря приписала Арсению претензии на двоевластие и скрыла от фернейского мудреца факт ссылки митрополита в отдаленный монастырь, где больной старец должен был выполнять тяжелые работы.
Пребывание в монастыре на скудной монашеской пище, а также суровый режим, при котором ему разрешались прогулки лишь в сопровождении четверых солдат, не лучшим образом повлияли на строптивый характер Арсения. Вместо смирения он проявлял непослушание и раздражительность, в особенности после того, как до него донеслись слухи из столицы о двух важных событиях: о секуляризации церковных имений и о гибели Иоанна Антоновича. Арсений откровенно выражал свой протест в разговоре с караульными солдатами, говаривал им об Иоанне Антоновиче, что «невинно он смерть получил». Иногда монастырское начальство разрешало Арсению произносить проповеди, и тогда с амвона звучали обличительные слова. Все разговоры сходили ему с рук, пока в 1767 году протодиакон Иосиф Лебедев не настрочил донос в губернскую канцелярию. Об этом доносе стало известно Екатерине, и Арсений вновь привлек ее пристальное внимание. Непосредственное наблюдение за ходом следствия она поручила генерал-прокурору А. А. Вяземскому. В итоге Архангелогородская канцелярия получила указ, по которому поведению ссыльного дана была политическая оценка. Меру наказания определила сама императрица: она повелела лишить Арсения монашеского звания, облачить его в мужицкую одежду, назвать Андреем Вралем, переменить место ссылки и ужесточить режим содержания. Андрея Враля надлежало перевести в Ревель, лишив возможности общения с кем бы то ни было. Караульными были назначены солдаты, не знавшие русского языка.
Императрица понимала, что дело Арсения не украшает первые годы ее правления, и поэтому позаботилась о том, чтобы события в ее интерпретации стали достоянием не только Вольтера, но и просвещенной части французского общества. С этой целью, конечно же не без ведома Екатерины, была составлена статья о деле Мацеевича, переведенная на французский и предназначавшаяся для опубликования в газетах. Статья начинается с торжественной декларации, в которой сообщалось, что нет более милосердного и великодушного монарха, чем Екатерина, проявившая снисходительность к преступнику, выступившему «как против человеческих, так и против божественных законов». Далее следовало краткое изложение событий, к которым был причастен Мацеевич, причем без искажения. Екатерина, ознакомившись с содержанием статьи, наложила резолюцию: «Опробуется».
20 декабря 1767 года в губернской канцелярии состоялось расстрижение монаха Арсения. Сани с Андреем Вралем сопровождали два сменявших один другого офицера, каждому из которых вручалась инструкция: первый должен был везти его от Архангельска до Вологды, второй – от Вологды до Ревеля. Третья инструкция предназначалась ревельскому коменданту Тизенгаузену. О значении, придаваемом Екатериной ревельскому узнику, свидетельствует ее собственноручная записка коменданту: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка, береги, чтоб не улетела».
Не обделен был вниманием императрицы Андрей Враль и в последующие годы. В 1769 году Тизенгаузена на посту коменданта Ревеля сменил Бенкендорф. В этой связи Екатерина отправила генерал-прокурору Вяземскому записку: «Не изволишь ли писать к нему (Бенкендорфу. – Н. П.), чтобы он за Вралем имел смотрение такое, как Тизенгаузен имел, а то боюсь, чтоб не бывши ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии свои какие ни на есть штуки, и чтоб не стали слабее за сим зверком смотреть, а то нам от того не выливались новые хлопоты».
Насколько обоснованны опасения Екатерины? Действительно ли протест Арсения представлял серьезную угрозу светской власти. И в самом ли деле Екатерина должна была предпринять решительные меры, чтобы пресечь нависшую опасность? На поставленные вопросы можно дать отрицательный ответ: сорвать секуляризационные планы императрицы Мацеевич не мог, и это та прекрасно понимала. И если императрица уготовила бунтарю суровую кару, то эта ее акция, скорее всего, имела личную подоплеку: резкие и нелестные о ней отзывы, высказанные им еще в 1762 году. Во время второго следствия над Арсением в 1767 году доносчик писал: «Монах де Арсений говаривал слова такие: “ее да величество наша неприродная, и она де нетвердая в законе нашем и не надлежало де ей Российского престола принимать, а следовало Ивану Антоновичу, или лучше бы было, кабы ее величество за него вступила в супружество”.» Екатерина против этого текста сбоку написала: «Сии слова Арсений говорил и в 1762 году капитану Дурново, когда сей последний приезжал его брать в Синод, и так Алексеевский то не выдумал». Слова Арсения, как видим, столь глубоко задевали Екатерину, что она их помнила и пять лет спустя.
Обрушившиеся на Арсения кары осуществлялись в годы, когда императрица усердно сочиняла свой «Наказ» и созывала Уложенную комиссию. Идеи «Наказа» резко контрастировали с жестокостью, проявленной императрицей по отношению к Арсению. Поведение Екатерины кажется странным еще и потому, что Арсений до 1767 года наивно полагал, что ей неведомы подлинные его доводы против секуляризации, что она пользовалась донесениями Синода и вельмож, намеренно искажавшими его мысли, и что стоило ей почитать его подлинные донесения, как она проникнется его, Мацеевича, идеями и отменит секуляризацию.
Третье следственное дело связано с волнениями приписанных к уральским заводам государственных крестьян. Специфика этого следствия состояла в том, что следователи не ограничивались только дознанием, выявлением зачинщиков, но прибегали и к использованию воинских команд, вооруженных, помимо стрелкового оружия, еще и пушками.
Волнения начались в середине 50-х годов, вскоре после передачи казенных заводов вельможам, то есть задолго до вступления на престол Екатерины II. Они были вызваны хищнической эксплуатацией крестьян новыми владельцами. В погоне за барышами вельможи обременяли крестьян непомерно высокими нормами повала леса и жжения древесного угля: они считали для себя невыгодным использовать наемных работников, поскольку установленная казной еще в 1724 году оплата труда приписных крестьян была в три-четыре раза ниже рыночной.
Приводить крестьян в повиновение Екатерина поручила генерал-квартирмейстеру Александру Алексеевичу Вяземскому. В декабре 1762 года была составлена инструкция, которая разъясняла, как ему надлежит действовать. Первым делом Вяземский должен был привести заводских крестьян к послушанию, то есть принудить их выполнять возложенные на них повинности, и только после этого заняться выяснением причин, вызвавших их недовольство. Ведя следствие, Вяземский должен был опираться на жалобы обеих сторон, исследовать их «беспристрастно», ибо, говорилось в инструкции, «как крестьянская продерзость всегда вредна, так и человеколюбие наше терпеть не может, чтоб порабощали крестьян выше мер человеческих, особенно с мучительством». Вяземскому, располагавшему воинской командой, было предоставлено право чинить суд и расправу не только над зачинщиками волнений, но и над приказчиками, отличавшимися жестоким обращением с крестьянами. При наказании приказчиков «надобно брать предосторожность, чтоб крестьяне не возмечтали, что их начальники и тогда должны их бояться, когда им не нравится и правильная работа». В случае, если крестьяне будут продолжать упорствовать, в них разрешалось стрелять.
Кроме того, Вяземскому вменялось в обязанность изучение состояния уральских заводов, их оборудования, производительности, обеспеченности рабочей силой. Ему также поручалось дать аргументированный ответ на вопросы, не целесообразнее ли отказаться от использования труда приписных крестьян и заменить его вольнонаемным и не следует ли все казенные заводы передать в частные руки.
За выполнение поручения Вяземский и сменивший его генерал Александр Ильич Бибиков заслужили похвалу императрицы. Оба они действовали жестоко, оставляя кровавый след в приписных деревнях. По свидетельству Екатерины, генералы, унимая непокорных, «не единожды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек».
Примечателен секретный доклад карателей о результатах следствия, в котором дан обстоятельный анализ причин крестьянских волнений. Из этого анализа вытекает, что виновниками волнений были вельможи-заводовладельцы, обременявшие крестьян высокими уроками при низкой оплате труда.
Императрице удалось не только разгрести наследие предшественников, но и осуществить первые самостоятельные шаги. Причем речь идет не о традиционных первых шагах государей, вступивших на престол, – то есть не об обычных милостях по отношению к вельможам, оказавшимся ранее в опале. Екатерина в этом плане не составляла исключения и, как мы помним, вернула из ссылки А. П. Бестужева-Рюмина и отстраненного от дел Я. П. Шаховского. В данном случае нас не интересует и смена лиц, стоявших у кормила правления, которая обычно сопровождала смену лица на троне. Наше внимание привлекут новшества во внутренней и внешней политике, отраженные в действиях и законодательных актах нормативного характера, обозначавших вехи истории страны.
В первых самостоятельных действиях императрицы, прежде всего в области внутренней политики, практически невозможно обнаружить следы сколько-нибудь продуманной системы либо программы, части которой в строгой последовательности претворялись бы в жизнь. Ученица Вольтера располагала достаточным временем, чтобы подготовить себя к занятию трона, о чем она вожделенно мечтала по крайней мере лет шесть. Однако новшества, даже более или менее существенные, на наш взгляд, внедрялись стихийно. В этом смысле Екатерина, располагавшая большими возможностями, чем Петр I, практически повторила путь, пройденный великим реформатором: преобразования в течение первых тринадцати лет проводились в угоду сиюминутных потребностей. И еще одна перекличка с петровским временем – инициатива реформ часто исходила не от императрицы, а от ее окружения.
Исключение составляет указ, опубликованный спустя чуть больше месяца после восшествия на престол, 31 июля 1762 года, и скорее всего навеянный собственными размышлениями и наблюдениями императрицы. Документ расширил список товаров, находившихся в вольной продаже за счет смолы и ревеня. Отменялась казенная монополия на торговлю с Китаем, а также откупы на тюленьи и рыбные промыслы и табак. Сбор таможенных пошлин, находившихся с 1758 года на откупе у купца Шемякина, тоже изымался из его ведения, как и ввоз в Россию шелка. В казенной монополии оставалась лишь торговля поташом и смольчугом, что мотивировалось необходимостью беречь леса[71]. Ликвидация откупов, как и монополии на ходовые товары, избавляла торговлю и промыслы от пут средневековой регламентации и являлась серьезной заявкой на свободу предпринимательства.
В 1763 году Екатерина взялась было проводить кардинальные реформы, но остановилась на полпути. Речь идет о проектах Никиты Ивановича Панина, заключавшихся в реформировании Сената и создании нового учреждения – Императорского совета. По мнению Панина, Сенат, состоявший из 25–30 вельмож, давно превратился в громоздкую и малоэффективную махину, поскольку сенатор, как писал Панин, «приезжает на заседание как гость, который не знает не только вкуса кушанья, но и блюд, коими его будут потчевать». Если эту метафору перевести на деловой язык, то суть критического замечания Панина состояла в том, что многие члены Сената бездельничали, позволяли себе отмалчиваться и пассивно наблюдать за происходившим. Положение исправится, полагал Панин, если Сенат разделить на департаменты, в каждый из которых должно определить по шесть членов. Тогда исчезнет возможность прятаться за спины других, и дела в Сенате пойдут быстрее.
Панин предлагал разделить Сенат на шесть департаментов, каждому из которых надлежало ведать строго определенной отраслью управления. Например, одному департаменту поручалось ведать делами Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегий; создавались департамент по Юстиц- и Вотчинной коллегии, Департамент, ведавший делами бывшей Рекетмейстерской конторы (он принимал жалобы); Департамент по Военной и Адмиралтейской коллегиям и др. Екатерина одобрила и утвердила панинский проект, и реформа Сената была осуществлена в 1763 году.
Иная участь постигла проект того же Н. И. Панина об учреждении Императорского совета. Панин подверг резкой критике предшествующие царствования, когда страной правили временщики и «припадочные люди», как он именовал фаворитов. И те и другие не радели об интересах государства, предметом их забот были личные интересы. И те и другие олицетворяли зло, поскольку не обладали необходимыми для управления способностями. Лица, преуспевшие в карьере, руководствовались правилами – «была бы милость, всякова на все станет». Создавался порочный замкнутый круг: «прихоть была единственным правилом, по которому дела к производству были избираемы». Власть «припадочных людей» котировалась выше власти государственных учреждений, а отсюда проистекало множество пороков: лихоимство, безнравственность, произвол. От этих пороков и должен был избавить страну Императорский совет. Но его надобность обусловлена и тем, что монарх, удовлетворяющий самым высоким требованиям, не в силах справиться с огромным потоком дел.
Императорский совет, по замыслу Панина, должен был состоять из шести персон, четыре из которых назывались статскими секретарями; каждый из них ведал важнейшими сферами управления: внешней политикой, внутренними делами, военными и морскими. (Подробнее о проекте учреждений Императорского совета будет рассказано в главе, посвященной Н. И. Панину.)
Екатерина отклонила проект об учреждении Императорского совета. Причем сделано это было не в решительной форме, а путем проволочек, его постепенного удушения. Поначалу императрица высказала ряд малозначительных пожеланий и замечаний: вместо шести предложила ввести в Совет восемь членов; ей не понравилось слово «министр», и она просила заменить его русским словом; не по сердцу Екатерине пришелся и резкий отзыв о царствовании Елизаветы Петровны, уподобленном Паниным «варварским временам». Синонима слову «министр» в русском языке не нашли и оставили его, а выражение «варварские времена» убрали. Екатерине ничего не оставалось как подписать Манифест об учреждении Императорского совета и утвердить его состав (Бестужев, Разумовский, Воронцов, Шаховской, Панин, Чернышов, Волконский и Г. Орлов), но от его опубликования она воздержалась, решив ознакомить с ним некоторых вельмож.
Критики не отклонили саму идею создания учреждения, но предложили внести поправки технического свойства: назвать совет не Императорским, а Верховным тайным советом, заседать ему не пять, а четыре раза в неделю. Наиболее критически к проекту был настроен генерал-фельдцейхмейстер Вильбоа: «Я не знаю, – писал он, – кто составитель проекта, но мне кажется, как будто он, под видом защиты монархии, таким образом склоняется более к аристократическому правлению». По мнению критика, над императрицей нависла серьезная угроза ограничения власти монарха: «Обязательный и государственным законом установленный Императорский совет и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения соправителей»[72]. После этого Екатерина надорвала последний лист подписанного ею Манифеста, чем положила конец всем разговорам о создании Императорского совета.
Мотивов отклонения проекта об организации нового учреждения и согласия императрицы на реформу Сената источники не сохранили, и историки высказывают различного рода гипотезы. Одна из них объясняет согласие Екатерины на разделение Сената на шесть департаментов, то есть дробление данного учреждения на мелкие части, ее стремлением превратить Сенат в послушный себе орган и устранить возможность оппозиции с его стороны[73]. Подобное суждение представляется лишенным серьезных оснований. В самом деле, о какой оппозиции со стороны Сената могла идти речь, если он проявил трогательную заботу и усердие о благополучии только что взошедшей на престол Екатерины: он услужливо освободил ее от участия в похоронах убитого супруга, а 17 июля выступил с предложением соорудить ей монумент.
Искать подспудных мотивов одобрения Екатериной реформы Сената вряд ли целесообразно, они обстоятельно изложены самим автором проекта и настолько очевидны, что поиски каких-то особых причин поведения императрицы способны не прояснить, а затемнить проблему – цель реформы состояла в повышении мобильности и эффективности работы Сената и сенаторов. Сложнее обнаружить мотивы блокирования Екатериной проекта о создании Императорского совета. Заметим, критический отклик Вильбоа использован лишь в качестве предлога – императрица и сама видела ущемление им прерогатив абсолютного монарха, но не решалась в конце 1762 года открыто выступить против него. Разве она ожидала, чтобы ей кто-либо посторонний открыл глаза на следующий пассаж проекта, явно ущемлявший прерогативы абсолютного монарха: «Все то, что служить может к собственному самодержавию государя, попечении о приращении и исправлении государственном имеет быть в нашем Императорском совете, яко у нас собственно». Здесь просматривается олигархическая тенденция, попытка в какой-то мере уравнять заботы монарха с заботами формально подчиненного ему учреждения. Для отказа реализовать проект у Екатерины были и дополнительные мотивы – как выше было отмечено, она хотела не только царствовать, но и управлять. Более того, создание Императорского совета Панин мотивировал теми же причинами, какими в свое время руководствовались при учреждении Верховного тайного совета – бременем многочисленных и разнообразных обязанностей, ложившихся на плечи монарха. Это был намек на неспособность Екатерины самой справиться с управлением страной, что задевало ее самолюбие и тщеславие. Равным образом, осуждение роли временщиков и «припадочных людей» при Елизавете Петровне наводило тень и на Екатерину, ибо выходило, что она тоже не в состоянии была ограничить роль фаворита лишь любовными утехами. Не могли устроить императрицу и инициатива создания нового учреждения, исходившая не от нее, а от ее подданного. Но при этом императрица нисколько не сомневалась в целесообразности существования при ней совещательного органа типа Кабинета министров и Конференции при высочайшем дворе, что явствует из учреждения ею в 1768 году Государственного совета.







