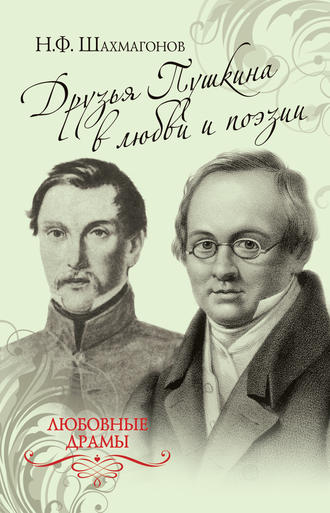
Николай Фёдорович Шахмагонов
Друзья Пушкина в любви и поэзии
От автора
Любовь – вечный движитель Творчества. Кто с этим поспорит? В предыдущей книге серии «Любовные драмы», которая так и называется «Пушкин в любви и любовной поэзии», рассказано об удивительном воздействии любви на Русского гения Александра Сергеевича Пушкина. Теперь настало время поговорить о его друзьях, причём о тех именно друзьях, на жизни и творчестве которых сказалось их удивительное умение любить и творить литературные ли произведения, или просто добрые дела, под вдохновением этого светлого, всепобеждающего чувства.
Имена тех, о ком пойдёт речь в этой книге, широко известны, известны их свершения во имя Отечества, или просто добрые дела во имя своих родных и близких. Но как раз самая яркая, самая светлая сторона в их жизни – Любовь – часто оставалась за кадром.
Что мы знаем о Василии Андреевиче Жуковском? Да, конечно, каждый скажет, что он – учитель Пушкина, хотя бы на основании того, что сам Александр Сергеевич признал его учителем, а Жуковский сделал надпись на своём портрете, подаренном молодому ещё совсем автору великолепной поэмы «Руслан и Людмила»: «Победителю ученику от побеждённого учителя».
Но остались за кадром любовные драмы поэта, как-то не очень уделялось внимание трагедиям и драмам его семьи, хотя они оказали решающее влияние на его творчество, не афишировалась при изучении творчества его личная драма – несчастная любовь к племяннице, невозможность соединиться с нею брачными узами, замужество её и ранняя смерть… Если мы более пристально вглядимся в творчество знаменитого поэта и великолепного переводчика, то увидим отражение личных трагедий и в стихотворениях, и в самом подборе для перевода поэтических произведений зарубежных поэтов. А женитьба его в 56 лет на 17-летней дочери своего давнего приятеля?! Разве это не отголосок трагедий детства, юности, молодости? Что же касается любовной драмы дочери Жуковского Александры, ставшей морганатической супругой великого князя Алексея Александровича и разлучённой с ним по воле императорской семьи, то о ней и вообще было известно очень мало. Но, не представив себе все жизненные перипетии, мы не сможем по-настоящему понять то, что хотел донести до нас поэт в своих бессмертных произведениях.
У Жуковского, как и у его ученика, не было, если можно так выразиться, дефицита любви. Только у Пушкина внешне все выглядело бурно, весело, задорно, а у Жуковского подёрнуто печалью. А вот у поэта Константина Батюшкова как раз всё, что касалось любови, было в остром дефиците. Озарения и крах всех надежд… Затем снова увлечение, любовь, попытка жениться и осознание того, что согласие на брак даётся возлюбленной без всяких чувств, просто по обстоятельствам. А тут ещё врождённая болезнь, которая прогрессирует при любых жизненных неурядицах, особенно любовных. И снова мы видим отражение в творчестве всего того, что доставляло такие невероятные душевные муки в жизни.
У Дениса Давыдова любовные романы, тоже зачастую неудачные, всё же проходили с какой-то удалью, пусть даже отчасти внешней. Он в своих любовных приключениях бывал подчас столь же дерзок, как в бою. В книге неслучайно даны не только любовные эпизоды, но и самые первые боевые дела, характеризующие и самого поэта, и его дальнейшее творчество.
Краткая, осветившая литературный небосклон жизнь-зарница Михаила Юрьевича Лермонтова подарила читателям невероятное количество и поэтических, и прозаических произведений, посвящённых любви. И снова мы видим то лихую удаль, то нежнейшие переливы поэтических строк. Даже перед самым убийством, спланированным мерзавцами, начинающими кооператорами – то есть людьми, продавшими совесть золотому тельцу, Лермонтов думает о высоком, о добром и вечном, он делится планами о новых грандиозных романах.
Киллер же – сын винного откупщика Соломона Мартынова, изгнанный из армии за трусость «соломонов сын», «мартышка», начинающий винный откупщик и члены организованной преступной группировки, среди которых «первый кооператор» Васильчиков, как сказано о нём в Википедии, «родоначальник кооперативного движения в России», уже составили план убийства и только ждут назначенного часа. Отец Васильчикова – министр двора и компаньон Соломона Мартынова по винному откупу. Бояться нечего – прикроют. И прикрыли… И только поистине храбрый офицер Руфин Дорохов, сын дерзкого и отважного рубаки – героя Отечественной войны 1812 года, генерала Дорохова, самостоятельно разобравшись в деле, заявляет: «Дуэли не было. Было убийство!»
Любовь… Она окрыляет и даёт жизненные силы не только людям творческим. Знаменитый хозяин знаменитого Архангельского, которого Пушкин звал «мой Юсупов», почитая своим другом, прожил долгую жизнь в любви и любовных приключениях. Долгую… Потому что умел любить и в 80 лет имел молодую любовницу. Но история рода Юсуповых соткана из любовных трагедий и драм… О них рассказывается в книге.
Нельзя не вспомнить и о настоящей, верной и преданной подруге Пушкина – замечательной дочери замечательного нашего полководца Михаила Илларионовича Кутузова, заставившего французов, «как турок под Слободзеей есть лошадиное мясо». Трагическая судьба. Первый муж Елизаветы Михайловны, урождённой Кутузовой, геройски погиб при Аустерлице, и с него с документальной точностью списал подвиг Болконского Лев Толстой в романе «Война и мир». Она долго не могла оправиться от горя, а когда всё же вышла замуж второй раз, то и здесь всё закончилось вдовством. Любовь спасала её, необыкновенная любовь к Пушкину. Она дала ей жизненные силы, она, несмотря на то, что была любовью неразделённой, вела по жизни. Гибель Пушкина подкосила её, и она пережила своего кумира всего лишь на два года.
В книге собраны повествования о друзьях Пушкина с самыми яркими любовными перипетиями в любви.
Любовные драмы «побеждённого учителя»
За кого поднимал Пушкин заздравный кубок?
Биографы и литературоведы до сих пор не могут прийти к общему мнению, был ли Александр Сергеевич Пушкин счастлив в семейной жизни? Одни обрушиваются с упрёками на его супругу Наталью Николаевну, урождённую Гончарову, другие берут её под свою яростную защиту. Но ответить на этот вопрос мог только Пушкин и только он один. Конечно, супружество доставило ему немало хлопот и волнений, конечно, заставило нередко ревновать свою супругу и отчасти привело к гибели на так называемой дуэли, которая явилась просто-напросто коварно и подло спланированным убийством. Но об этом мы уже говорили в предыдущей книге серии «Любовные драмы» – «Пушкин в любви и любовной поэзии». Теперь настала пора поговорить о любовных приключениях и драмах друзей Пушкина.
В различных биографических и энциклопедических изданиях друзьями Пушкина именуются очень и очень многие его современники, близкие к нему по литературному, а прежде всего поэтическому творчеству. К друзьям относят и просто его близких знакомых, как, например, князя Николая Борисовича Юсупова, который был старше на полвека, но которого Александр Сергеевич называл «мой Юсупов» и очень часто встречался с ним для долгих душевных разговоров.
Но, наверное, не ошибусь, если назову в числе самых первых, искренних и нелицемерных друзей Пушкина Василия Андреевича Жуковского. Это был не просто друг – это был наставник поэта, его учитель. Вспомним фразу, известную нам со школьной скамьи: «Победителю ученику от побеждённого учителя».
Эту фразу Василий Андреевич написал на своём портрете, который подарил Пушкину, когда тот представил ему поразившую Жуковского поэму «Руслан и Людмила».
Да, Пушкин долгое время был учеником, следуя в какой-то мере в кильватере творческого курса выдающихся мастеров русской поэзии. Он учился у Державина, у Дениса Давыдова, у Батюшкова, ну и, конечно, у Жуковского. Тому свидетельство даже некоторое подражание своим учителям в творчестве тем, у кого он, выражаясь его же строками из поэмы «Полтава», учился, «за учителей своих заздравный кубок поднимая».
Вспомним Пушкинское стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Приведу его полностью, хотя уверен, что многие читатели помнят его наизусть. Но в данном случае стихотворение стоит напомнить, и скоро станет ясно, по какой причине…
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Ну а теперь ещё одно стихотворение, которое уже не так широко известно, хотя в нём сразу улавливается что-то очень и очень знакомое. Что? Да то, что читали выше…
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полёт его не сокрушит.
Так! – весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастёт моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.
Слух про́йдет обо мне от Белых вод до Чёрных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льёт Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчётных,
Как из безвестности я тем известен стал,
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.
О Муза! возгордись заслугой справедливой,
И пре́зрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой,
Чело твоё зарей бессмертия венчай.
Кто воспевал Фелицу? Конечно, Гавриил Романович Державин, ну а под Фелицей он подразумевал Императрицу Екатерину Великую. Дело в том, что Фелица – «Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды!» – героиня сказки о Царевиче Хлоре, автором которой является Государыня. Ну и Державин неслучайно воспевал Богоподобную Царевну.
Стихотворение же написано им в 1795 году, то есть за четыре года до рождения Пушкина.
Заимствовал ли Пушкин тему именно у Державина? Нет. Идея принадлежит другому автору, древнеримскому поэту Горацию.
Квинт Гораций Флакк (8 декабря 65 г. до н. э. – 27 ноября 8 г. до н. э.) писал так…
Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не разрушат и ряд
Нескончаемых лет – время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь
Восхваляем, доколь по Капитолию…
Ну и далее встречаются весьма схожие фразы. Впрочем, ода Горация переводилась не раз. Её переводили М.В. Ломоносов (1748), В.В. Капнист (1805), А.Х. Востоков (1806), С.А. Тучков (1816).
Но Пушкин в творчестве превзошёл всех, как, наверное, превзошёл и в любви, поскольку, как бы ни относиться критически к его донжуанскому списку, всё-таки лучи его непревзойдённой поэзии осветили и согрели многих самых великолепных, самых прекрасных, самых чудных («я помню чудное мгновенье») женщин.
И превзошёл в поэзии любви, хотя и здесь Пушкин находился не только в плену очарования воспеваемых им возлюбленных барышень, но и в плену обаяния поэтических строк своих учителей. За примером далеко ходить не надо. В своём великолепном стихотворении «Я помню чудное мгновенье», посвящённом Анне Петровне Керн, стихотворении, положенном на музыку чарующего романса великим русским композитором Михаилом Глинкой, романса, посвящённого им дочери Анны Петровны Екатерине Керн, Пушкин обессмертил поэтическую строку своего учители Василия Андреевича Жуковского. Ведь именно у Жуковского впервые прозвучало – «гений чистой красоты».
У Василия Андреевича Жуковского в стихотворении «Лалла рук» читаем:
Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной красоты…
Ну а у Пушкина…
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Василий Андреевич познакомился с этим поэтическим произведением ирландского поэта-романтика Томаса Мура (1779–1852) во время своего путешествия в 1821 году и сделал прекрасный перевод, о котором мы ещё поговорим в последующих главах.
Пушкин взял прекрасные строки, которые, учитывая тонкости любого перевода, несомненно, принадлежали именно Жуковскому, для посвящения восхитительной и неотразимой Анны Керн.
Правильно ли сказать, что Пушкин превзошёл своих учителей в творчестве и любви? В творчестве – да! Это общепризнано. А в любви?
Каков вообще критерий счастья в любви? Кого мы можем считать счастливым в этой волшебной области человеческого бытия? Если взять литераторов вообще – и поэтов и прозаиков, пока у нас есть только одно твёрдое и точное указание на подлинное счастье. Я приводил слова Льва Николаевича Толстого в книге «Любовные драмы Русских писателей»:
«Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жёны, как у Достоевского».
Когда композитор Сергей Прокофьев попросил Анну Григорьевну Достоевскую что-то написать в его альбом, который он хотел посвятить солнцу, она написала: «Солнце моей жизни – Фёдор Достоевский. Анна Достоевская…»
Но Лев Николаевич Толстой написал и другие слова о представительницах прекрасного пола:
«Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всём и множество дурных пороков, как не от женщин?»
Конец 1899 года. Толстому идёт 72 год. Колоссальный опыт в жизни, творчестве и, конечно, в любви. Он делает вывод:
«Главная причина семейных несчастий – та, что люди воспитаны в мысли, что брак даёт счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература; но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворённое половое желание».
Тихон Иванович Полнер (1864–1935) историк, литератор и издатель, в книге «Лев Толстой и его жена. История одной любви», написанной в эмиграции, отметил:
«Творения Толстого теснейшим образом связаны с его интимной жизнью. Это утверждение относится не только к беллетристике. Оно всецело подтверждается внимательным рассмотрением философских, религиозных и политических работ великого автора. Говорят: наслаждайтесь произведениями искусства и оставьте в покое личность автора. Даже и это не верно. Часто биографические изыскания углубляют понимание произведений искусства. “Оставить в покое” личность проповедника и пророка – уже совершенно невозможно. И не потому только, что слова без дел не убеждают. Важно, что характер самой проповеди, её содержание, противоречия, эволюция воззрений бывают подчас необъяснимы без тщательного исследования интимной жизни проповедника. К такому убеждению я неизбежно склонялся каждый раз, когда пытался проследить фазы развития Толстого».
Как это подходит к очень многим биографиям прозаиков и поэтов. Словно в фарватере этих слов прошли любовные истории Ивана Сергеевича Тургенева и Фёдора Ивановича Тютчева, Ивана Алексеевича Бунина и Алексея Константиновича Толстова. Эти слова можно целиком отнести к судьбе Александра Сергеевича Пушкина и судьбам его друзей.
Каковы бы ни были жизненные ситуации – в чём-то схожи или, напротив, различны, но чтобы понять истоки драм и трагедий, – а без таковых редко обходились любовные страсти – но «оставить в покое личность» – значит вовсе ничего не понять ни в жизни, ни в творчестве, ни в любви того или иного человека.
Очень часто именно в детские годы закладываются счастье или несчастье в любви. Это особенно ярко отражено в биографиях, к примеру, Ивана Сергеевича Тургенева и Фёдора Ивановича Тютчева, о чём приведены рассуждения в книгах «Любовные драмы Русских писателей» и «Любовные драмы Русских поэтов». В судьбах этих мастеров слова всё связано с трагедиями первой любви. У Пушкина, о чём мы говорили в книге «Пушкин в любви и любовной поэзии», были иные проблемы – проблемы отношения к нему родителей. Ему, по его мнению, не хватало родительского тепла. Он был средним ребёнком в семье, и на нём отразились проблемы среднего ребёнка, которые нередки во многих семьях.
А вот Жуковскому, напротив, вполне хватало материнского тепла, поскольку обстоятельства сложились так, что он получал это тепло не только от родной матери, но и от супруги отца, которая отчасти стала его второй матерью. Отчасти лишь потому, что по близости всегда была родная мать.
Жуковский оказался воспитанником женского общества – рядом были родная мать Сальха, супруга отца Мария Гавриловна, старшая сестра Варвара Афанасьевна, которая одновременно была крёстной матерью и племянницы – дочери старших сестёр Варвары и Екатерины.
Это тоже наложило свой отпечаток на его судьбу, на любовные коллизии, выросшие в любовные трагедии и драмы.
Но ведь и они родились не на пустом месте. История рода будущего поэта богата на любовные драмы. С них мы и начнём разговор о любовных перипетиях самого Василия Андреевича.
Сын русского барина и турчанки
В восемнадцатом веке рождение внебрачных детей было явлением частым. Для людей бедных, скажем помягче, невысоких сословий, они становились неразрешимой проблемой. Недаром знаменитый государственный деятель Иван Иванович Бецкой, сам незаконнорожденный сын князя Трубецкого, незаконнорожденной дочерью которого стала будущая Императрица Екатерина Великая (см. мою книгу «Орлы Екатерины в любви и сражениях»), создал Воспитательный дом, в который принимались и в котором воспитывались незаконнорожденные дети. Причём всё было устроено так, что сдать в этот дом малютку можно было тайно.
Состоятельные же вельможи могли позволить себе воспитывать своё чадо. Даже выработано было негласное правило – фамилия давалась незаконнорожденному ребёнку отцовская, но в несколько усечённом виде, без первого слога. Так сын Трубецкого Иван стал Бецким, сын Репнина получил фамилию Пнин и так далее. Ну а само определение «незаконнорожденный» или «незаконнорожденная» было даже закреплено законодательно. Таковыми признавались: «Рожденные вне брака, хотя бы их родители потом и соединились законными узами; произошедшие от прелюбодеяния; рождённые более чем через 306 дней после смерти отца или расторжения брака разводом; все прижитые в браке, который по приговору духовного суда признан незаконным и недействительным».
Что же касается Василия Андреевича Жуковского, то он получил не отцовскую фамилию, которую, впрочем, и «усекать» на один слог было некуда, а фамилию бедного дворянина Жуковского, жившего в доме отца. Но зато он, в отличие от многих, себе подобных чад, вошёл в семью отца как равноправный ребёнок. Кстати, так же случилось и с упомянутым выше Иваном Ивановичем Бецким.
Появление на свет будущего поэта и его детство было тесно переплетено с семейными драмами его отца, его супруги и его возлюбленной. Русский историк и литературовед Пётр Иванович Бартенев (1829–1912), известный как основатель пушкиноведения и издатель исторического журнала «Русский архив», коснулся этой истории в своих воспоминаниях. Весной 1852 года писатель-беллетрист и издатель Михаил Петрович Погодин (1800–1875) посоветовал Петру Иванович заняться биографией Василия Андреевича Жуковского, пояснив, что это «будет угодно Государю». Он же рекомендовал Бартенева Авдотье Петровне Елагиной, представительнице семейства знаменитейшего. Пращур, как известно, был личным библиотекарем Екатерины Великой.
П.И. Бартенев писал:
«Чуть не с первого дня знакомства Авдотья Петровна отдала мне читать и позволила списывать целые кипы писем к ней Жуковского, который был незаконным братом её матери, Варвары Афанасьевны Юшковой, рождённой Буниной, дочери Белевского воеводы Афанасия Ивановича. Мать Жуковского была турчанка, взятая в плен после покорения Бендер графом Паниным в 1770 году и привезённая к Бунину крепостным его человеком, который, как и многие другие крестьяне Тульской и Орловской губернии, уходили по паспортам в маркитанты, т. е. занимались мелочной торговлею при наших войсках. Авдотья Петровна была на шесть лет моложе Жуковского и с самого раннего его возраста любила Василия Андреевича, одной из первых учительниц которого была её мать, образованная и прекрасно игравшая на фортепиано. Жуковский был постоянным, ежедневным предметом воспоминаний Авдотьи Петровны, которая связывала его имя с памятью своей самой близкой подруги и двоюродной сестры Марии Андреевны Протасовой, дочери Андрея Ивановича и Екатерины Афанасьевны (рожд. Буниной). Жуковский и Мария Андреевна многие годы были влюблены друг в друга. Жуковский называл Авдотью Петровну своей Поэзией. Этого достаточно, чтобы выразить то обаяние, которым она пользовалась и в своей семье, и в близком обществе. Письма её таковы, что в сравнении с ними знаменитые письма m-le de Svignie кажутся приторными. Она до конца жизни любила занятие словесностью и в Дерпте за несколько месяцев до кончины перевела проповедь, сказанную там одним пастором. Всё, что она ни делала, выходило как-то изящно. Она хорошо рисовала и вышивала шелками; ничего в ней не было такого, что в учёных женщинах называется синечулочеством. С какою ясностью и теплотою вспоминала она прошедшие годы своей жизни; когда я её знал, она уже схоронила целый ряд детей своих и иной раз со слезами на глазах говорила: “Рахиль плачущися чады своих и не можаша утешитися яко не суть”. Конечно, моя с гимназии любовь к Жуковскому, знание наизусть многих стихов его и то, что сам он незадолго перед смертью намеревался пригласить меня в учителя к его детям, послужили к моему сближению с Авдотьей Петровной и её семейством, которое отличалось взаимною горячею дружбою».
Всего одна цитата, а сколько в ней загадок и тайн! Как же всё-таки получилось, что отцом будущего поэта стал весьма состоятельный русский помещик, а матерью – пленная турчанка? Ведь помещик-то был женат, и своих детей у него было пятеро!
Будущий поэт родился 29 января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии. Село находилось в трёх верстах от Белёва.
Отцом его был помещик Афанасий Иванович Бунин, ну а матерью, как упоминалось, турчанка по имени Сальха.
Вряд ли помещик Бунин мог предполагать, во что выльется его шутка, которую от отпустил, провожая своих крестьян на театр военных действий. А сказал он, привезите, мол, мне в жёны молодую турчанку, а то жена совсем старой стала.
Так это или не так, но турчанку привезли, да только в жёны её Афанасий Иванович, конечно, не взял, во-первых, потому что неровня она, но главное, потому что женат он был, и не было никаких раздоров в семье.
Через три года после рождения ребёнка, в 1786 году, Сальхе наконец был выдан вид на жительство в России. Документ так и именовался: «К свободному в России жительству».
Она не стала крепостной. В документе же говорилось, что она подобрана была при взятии нашими войсками города Бендер в 1770 году «с прочими таковыми же в полон и досталась майору Муфелю, и того же году оным майором по выезде в Россию отдана им Бунину на воспитание, и по изучении российского языка приведена была в веру греческого исповедания, причём восприемниками были жена Бунина Мария Григорьевна и иностранец, восприявший же веру греческого исповедания Дементий Голембевский».
Так и превратилась Сальха в Елисавету Дементьевну Турчанинову (отчество по имени восприемника при крещении). Указывались также основные приметы – то, что была она «росту среднего, волосы на голове чёрные, лицом смугла, глаза карие».
С матерью поэта ясно… Не крепостная, но и не дворянского сословия. А что же можно сказать об отце? Фамилия-то знаменитая!
Екатерина Ивановна Елагина, дочь племянницы Жуковского Марии Андреевны, урождённой Протасовой, единственной по-настоящему любимой Василием Андреевичем женщины, в «Семейной хронике» раскрыла, насколько это возможно, родословную Буниных:
«Иван Андреевич Бунин (дедушка Жуковского. – Н.Ш.) был женат на Феодоре Богдановне Римской-Корсаковой. У них был сын Афанасий и две дочери: Анна, вышедшая за Давыдова, и Платонида, которая ослепла; доктора объявили её неизлечимой. В это время только что открылись мощи Дмитрия Ростовского (в миру Данила Саввич Туптало (1651–1709), епископ Русской православной церкви). Платонида стала проситься, чтобы её отпустили в Ростов; она жила в это время в Москве у брата своего, который был уже женат. Брат и невестка согласились на её просьбы, и она поехала с какой-то теткой. В Ростове отстояла всенощную и упросила гробового монаха позволить ей остаться всю ночь у раки; он позволил, повёл её к мощам, и она осталась одна в запертой церкви. Всю ночь провела она в слезах и молитвах; поутру собрались монахи служить молебен; монах подошёл к ней и взял её голову, чтобы наклонить её приложиться к мощам; она приложилась и вдруг с криком радости: “Вижу, вижу!” вырвалась из рук монаха. Это чудо было засвидетельствовано тут же присутствовавшими и внесено в Ростовские летописи. Можно вообразить радость и изумление семьи её, когда она воротилась в Москву. Она после вышла замуж. Феодора Богдановна, мать её, была родом из Смоленска: складень Образ Смоленской Божьей Матери, который теперь у нас, принадлежал ей. Её благословили им к венцу, после благословили им Афанасия Ивановича, который благословил им Екатерину Афанасьевну, та – свою дочь Марию, а после – меня. Об Иване Андреевиче и Феодоре Богдановне нет никаких семейных преданий; известно только то, что они были очень строги и, кажется, крутого нрава. По крайней мере, слышала я, что однажды приехал к ним в Мишенское сын их Афанасий Иванович с молодой женой своей Марией Григорьевной и так были дурно приняты, что решились ночью уйти пешком в Белёв и ночевали на постоялом дворе».
В.В. Огарков писал по поводу супруги помещика:
«Жена Бунина, Марья Григорьевна, урождённая Безобразова, кроткая и умная женщина, являлась в окружавшей её среде сравнительно развитым человеком, что доказывается и тем образованием, которое она сумела дать, несмотря на невыгодные для этого тогдашние условия, своим дочерям и Жуковскому. Сам Бунин, очевидно, тоже не был из породы Митрофанушек – весьма распространенного типа того времени. Достаточно сказать, что единственный горячо любимый сын Буниных учился в университете в Лейпциге…»
Екатерина Елагина оставила о ней следующий отзыв:
«Жена Бунина Мария Григорьевна Безобразова по себе была женщина очень твёрдого и, кажется, холодного темперамента. Она была по-тогдашнему хорошо образованна, ибо умела читать и писать. Сестра ее Александра Григорьевна сего не достигла. Она подписывала бумаги под диктовку своего крепостного писаря; он говорил ей: “Пишите “азъ” – написала. Пишите “люди” – написала “люди”, – повторяла она и т. д. Марья Григорьевна очень любила читать и заставляла дочерей и внучек переводить для себя французские романы, которые они ей читали вслух».
Не совпадает в характеристиках лишь то, что В.В. Огарков называет Марью Гавриловну кроткого, а Екатерина Елагина – твёрдого характера.
В жёны Сальху помещик Бунин, как уже говорилось, брать не собирался, но в ту пору внебрачные связи помещиков с крепостными барышнями были делом нередким, нередким было и рождение внебрачных детей. Не сразу, судя по году рождения поэта, но помещик Бунин всё же положил глаз на пленную турчанку. Ну а когда родился мальчик, сложились обстоятельства, при которых сама судьба определила для него судьбу хоть и внебрачного сына, но оказавшегося на положении особом. Дело в том, что за два года до рождения будущего поэта, в 1781 году, внезапно умер сын Буниных. Два года – срок, конечно, недостаточный для того, чтобы могла стихнуть боль по безвременно ушедшему сыну, да и вообще такое горе неизлечимо, но всё же это время, которое позволило здраво взглянуть на то, что ожидало семью. Девицы подрастали, но сына, наследника, не было.
На своё имя Афанасий Иванович родившегося мальчика записывать не стал. Записали его по договорённости сыном бедного дворянина Андрея Григорьевича Жуковского, жившего, как нередко бывало в ту пору, у богатого помещика на правах дальнего родственника. Так родившийся малыш – сын русского барина и пленной турчанки – стал Василием Андреевичем Жуковским.
К тому времени Сальха приняла Православную веру и стала Турчаниновой Елизаветой Дементьевной.
Была она работящей, скромной поведением своим, услужливой. Жила во флигеле для прислуги. Туда-то и стал наведываться тайком помещик, когда подросла его пленница. Привезли то её пятнадцатилетней. Не одну привезли, с младшей тринадцатилетней сестрой. Причём обе, видимо, полагали, что попали в гарем к русскому властителю. Да только младшая умерла вскоре от чахотки, а старшая оказалась пассией барина. Но не сразу, а когда вошла в возраст девицы. До того времени она прислуживала сёстрам будущего поэта, причём добилась исполнительностью и трудолюбием доброго к себе отношения.
Екатерина Елагина писала по этому поводу о родной матери Жуковского:
«В доме у Буниных в Мишенском была она хозяйкой; у неё были ключи от вареньев, соленьев и прочих, ею приготовленных запасов. За столом с господами она не обедала, но всегда сидела с чулком в комнате Марии Григорьевны. Все тогдашние дети Мишенского сохранили о ней воспоминание, как о самом добром, преданном, незлобивом существе».
В 1849 году Пётр Александрович Плетнев уточнил некоторые, касающиеся родителей и рождения Жуковского, записав их со слов поэта:
«Бунин был помещик Белёвский… Жена его, приживши с ним несколько детей, оставила супружеское ложе и дала ему свободу в выборе потребностей Гимена. Какой-то приятель Бунина, участвовавший во взятии Силистрии, переслал ему оттуда, из гарема паши, одну премилую женщину, которая долго полагала, что мужчина везде имеет законное право на нескольких женщин. Поэтому она в полной невинности души предалась любви к Бунину и от ложа с ним родила ему сына: это был славный ныне поэт».
Относительно того, что так уж всё прошло гладко, есть разночтения. Всё-таки когда, как сообщают некоторые источники, появился на свет ребёнок, размолвка неминуемо случилась, и Афанасий Иванович вынужден был даже переехать во флигель к своей молодой возлюбленной. Впрочем, только ему одному ведомо, насколько она была любима. Не исключено, что просто стала предметом утех и услад.







