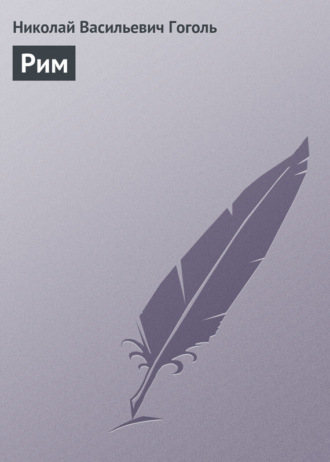
Николай Гоголь
Рим
Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители: в одном антикварии, в другом стрелки и охотники, в третьем кардинальские слуги, в четвертом художники, в пятом вся римская молодежь и римское щегольство; следил в остериях, чисто-римских остериях, куда не заходит иностранец, где римский nobile садится иногда рядом с миненте, и общество скидает с себя сюртуки и галстухи в жаркие дни; следил его в загородных живописно-невзрачных трактиришках, с воздушными окнами без стекол, куда фамилиями и компаниями наезжали римляне обедать, или, по их выражению, far allegria.[19] Он садился и обедал вместе с ними, вмешивался охотно в разговор, дивясь весьма часто простому здравомыслию и живой оригинальности рассказа простых неграмотных горожан. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает на верх всё народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество дотоле неподозреваемых красавиц, – красавиц, которых образы мелькают только в барельефах, да в древних антологических стихотворениях. Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы, в тысяче разных образов поднятые на голову, или опрокинутые назад, картинно пронзенные насквозь золотой стрелой, руки, гордая походка, везде черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть грациозных женщин. Тут женщины казались подобны зданьям в Италии: они или дворцы, или лачужки, или красавицы, или безобразные; середины нет между ними: хорошеньких нет. Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряду других и насылавшими свежительную дрожь на душу. Но скоро к таким наслажденьям присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всем прочим, – чувство, которое вызвало из душевного дна сильные человеческие страсти, подымающие демократический бунт против высокого единодержавия души: он увидел Аннунциату. И вот таким образом мы добрались, наконец, до светлого образа, который озарил начало нашей повести.
Это было во время карнавала. – Сегодня я не пойду на Корсо, сказал принчипе своему maestro di casa, выходя из дому: мне надоедает карнавал, мне лучше нравятся летние праздники и церемонии…
– Но разве это карнавал? – сказал старик, – это карнавал ребят. Я помню карнавал: когда по всему Корсо ни одной кареты не было, и всю ночь гремела по улицам музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали целые группы, истории; когда народ, – князь понимает: весь народ, все, все золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все nobili, все, все, все… о quanta allegria![20] Вот когда был карнавал так карнавал, а теперь чтό за карнавал? Э! сказал старик и пожал плечами, потом опять сказал: э! – и пожал плечами, и потом уже произнес: Е una porcheria.] Одно свинство! (итал.). ] – Затем maestro di casa в душевном порыве сделал необыкновенно сильный жест рукою, но утишился, увидев, что князя давно пред ним не было. Он был уже на улице. Не желая участвовать в карнавале, он не взял с собой ни маски, ни железной сетки на лицо, и забросившись плащом, хотел только пробраться через Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишком густа. Едва только продрался он между двух человек, как уже попотчивали его сверху мукой; пестрый арлекин ударил его по плечу трещоткою, пролетев мимо с своей коломбиною; конфетти и пучки цветов полетели ему в глаза, с двух сторон стали ему жужжать в уши: с одной стороны граф, с другой медик, читавший ему длинную лекцию о том, что у него находится в желудочной кишке. Пробиться между них не было сил, потому что народная толпа возросла; цепь экипажей, уже не будучи в возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вравне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукою, неся в другой написанный на бумаге сонет, с приделанным к нему бумажным хвостом, какой бывает у бумажного змея, и крича во весь голос: Ессо il gran poeta morto! Ecco il suo sonetto colla coda (Вот умерший великий поэт! вот его сонет с хвостом).[21] Этот смельчак сгустил за собою толпу до такой степени, что князь едва мог перевести дух. Наконец, вся толпа двинулась вперед за мертвым поэтом; цепь экипажей тронулась, чему он обрадовался сильно, хоть народное движение сбило с него шляпу, которую он теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза, и остолбенел: перед ним стояла неслыханная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде в ряду двух других тоже прекрасных женщин, которые были пред ней как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Всё должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему италиянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Всё, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, всё это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, – как художник, глядел бы он на них вечно, не смея дохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других наций; одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус; тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были повергнуться ниц; и верующий и неверующий упали бы пред ней как пред внезапным появленьем божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины выразили невольное изумленье на своих лицах, смешанное с наслажденьем, и повторяли: “О, bella”,[22] как всё чтó ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее. Но в лице красавицы написано было только одно вниманье к карнавалу: она смотрела только на толпу и на маски, не замечая обращенных на нее глаз, едва слушая стоявших позади ее мужчин в бархатных куртках, вероятно, родственников, пришедших вместе с ними. Князь принимался было распрашивать у близ стоявших около себя, кто была такая чудная красавица и откуда. Но везде получал в ответ одно только пожатье плечьми, сопровождаемое жестом, и словá: “не знаю, должно быть, иностранка”.[23] Недвижный, утаив дыханье, он поглощал ее глазами. Красавица, наконец, навела на него свои полные очи, но тут же смутилась и отвела их в другую сторону. Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: у, у, у… И в одну минуту с ног до головы был он обсыпан белою пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться.
Покамест он сбегал домой, пока успел переодеться, уже только полтора часа оставалось до Ave Maria. С Корсо возвращались пустые кареты: сидевшие в них перебрались на балконы смотреть оттуда не перестававшую двигаться толпу, в ожидании конного бега. При повороте на Корсо встретил он телегу, полную мужчин в куртках и сияющих женщин с цветочными венками на головах, с бубнами и тимпанами в руках. Телега, казалось, весело возвращалась домой, бока ее были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты зелеными ветвями. Сердце его захолонуло, когда он увидел, что среди женщин сидела в ней поразившая его красавица. Сверкающим смехом озарялось ее лицо. Телега быстро промчалась при кликах и песнях. Первым делом его было бежать вслед ее, но дорогу перегородил ему огромный поезд музыкантов: на шести колесах везли страшилищной величины скрыпку. Один человек сидел верхом на подставке, другой, идя сбоку ее, водил громадным смычком по четырем канатам, натянутым на нее вместо струн. Скрыпка, вероятно, стоила больших трудов, издержек и времени. Впереди шел исполинский барабан. Толпа народа и мальчишек тесно валила вслед за музыкальным поездом, и шествие замыкал известный в Риме своей толщиною пицикароло, неся клистирную трубку вышиною в колокольню. Когда улица очистилась от поезда, князь увидел, что бежать за телегой глупо и поздно, и притом неизвестно, по каким дорогам понеслась она. Он не мог, однакоже, отказаться от мысли искать ее. В воображеньи его порхал этот сияющий смех и открытые уста с чудными рядами зубов. “Это блеск молнии, а не женщина”, повторял он в себе, и в то же время с гордостью прибавлял: “Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме. Я должен непременно ее увидеть. Я хочу ее видеть, не с тем, чтобы любить ее, нет, я хотел бы только смотреть на нее, смотреть на всю ее, смотреть на ее очи, смотреть на ее руки, на ее пальцы, на блистающие волосы. Не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее. И что же? Ведь это так должно быть, это в законе природы; она не имеет права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того в мир, чтобы всякой ее увидал, чтобы идею о ней сохранял навечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему. Разве для того зажжен светильник, сказал божественный учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол? Нет, светильник зажжен для того, чтобы стоять на столе, чтобы всем было видно, чтобы все двигались при его свете. Нет, я должен ее видеть непременно”. – Так рассуждал князь, и потом долго передумывал и перебирал все средства, как достигнуть этого, – наконец, как казалось, остановился на одном, и отправился тут же, ни мало не медля, в одну из тех отдаленных улиц, которых много в Риме, где нет даже кардинальского дворца с выставленными росписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден нумер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая, куда из иностранцев заглядывает только разве пройдоха немецкий художник с походным стулом и красками, да козел, отставший от проходящего стада и остановившийся посмотреть с изумленьем, что за улица, им никогда не виданная. Тут раздается звонко лепет римлянок: со всех сторон, изо всех окон несутся речи и переговоры. Тут всё откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу; тут мужчин незаметно вовсе. Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого окна выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец, сьора Чечилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке, которое тут же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданьем на пол и словами: che bestia![24] Тут всё живо, всё кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и наклоня голову, готовился ему объяснить, чтó такое значат рога. Тут ничего не было неизвестного: всё известно. Синиоры всё знали, чтó ни есть: какой сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах, почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу: “все мошенники”, после чего продолжал снова пускать под нос себе дым. Сюда не заезжала никакая карета, кроме разве только одной двухколесной трясучки, запряженной мулом, привезшим хлебнику муку, и сонного осла, едва дотащившего перекидную корзину с броколями, несмотря на все понуканья мальчишек, угобжающих каменьями его нещекотливые бока. Тут нет никаких магазинов, кроме лавчонки, где продавался хлеб и веревки, с стеклянными бутылями, да темного узенького кафе, находившегося в самом углу улицы, откуда виден был беспрестанно выходивший боттега, разносивший синиорам кофей или шеколад на козьем молоке, в жестяных маленьких кофейничках, известный под именем: Авроры. Домы тут принадлежали двум, трем, а иногда и четырем владельцам, из которых один имеет только пожизненное право, другой владеет одним этажем и имеет право пользоваться с него доходом только два года, после чего, вследствие завещания, этаж должен был перейти от него к padre Vicenzo на 10 лет, у которого, однакоже, хочет оттягать его какой-то родственник прежней фамилии, живущий во Фраскати и уже заблаговременно затеявший процесс. Были и такие владельцы, которые владели одним окном в одном доме, да другими двумя в другом доме, да пополам с братом пользовались доходами с окна, за которое, впрочем, вовсе не платил неисправный жилец – словом, предмет неистощимый тяжб и продовольствия адвокатов и куриалов [25], наполняющих Рим. Дамы, о которых только что было упомянуто, все, как первоклассные, честимые полными именами, так и второстепенные, называвшиеся уменьшительными именами, все Тетты, Тутты, Нанны, большею частию ничем не занимались; они были супруги: адвоката, мелкого чиновника, мелкого торгаша, носильщика, факина [26], а чаще всего незанятого гражданина, умевшего только красиво драпироваться не весьма надежным плащем.
Многие из синиор служили моделями для живописцев. Тут были всех родов модели. Когда бывали деньги, они проводили весело время в остерии с мужьями и целой компанией, не было денег – не были скучны и глядели в окно. Теперь улица была тише обыкновенного, потому что некоторые отправились в народную толпу на Корсо. Князь подошел к ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, так что сам хозяин долго тыкал в них ключем, покамест попадал в настоящую. Уже готов он был взяться за кольцо, как вдруг услышал слова: “Сиор прин-чипе хочет видеть Пеппе?” Он поднял голову вверх: из третьего этажа глядела, высунувшись, сьора Тутта.
– Экая крикунья, сказала из супротивного окна сьора Сусанна: – Принчипе, может быть, совсем пришел не с тем, чтоб видеть Пеппе.
– Конечно с тем, чтобы видеть Пеппе, не правда ли, князь? С тем, чтобы видеть Пеппе, не так ли, князь? Чтобы увидеть Пеппе?
– Какой Пеппе, какой Пеппе! продолжала с жестом обеими руками сьора Сусанна. – Князь стал бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала, князь поедет вместе с своей куджиной [27], маркезой Монтелли, поедет с друзьями в карете бросать цветы, поедет за город far allegria. Какой Пеппе! Какой Пеппе!
Князь изумился таким подробностям о своем препровождении времени; но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала всё.
– Нет, мои любезные синиоры, сказал князь: мне, точно, нужно видеть Пеппе.
На это дала ответ князю уже синиора Грация, которая давно высунулась из окошка второго этажа и слушала. Ответ дала она, слегка пощелкав языком и покрутив пальцем – обыкновенный отрицательный знак у римлянок – и потом прибавила: нет дома.
– Но, может быть, вы знаете, где он, куда ушел?
– Э! куды ушел! повторила сьора Грация, приклонив голову к плечу. – Статься может, в остерии, на площади, у фонтана; верно, кто-нибудь позвал его, куда-нибудь ушел, chi lo sa (кто его знает)!
– Если хочет принчипе что-нибудь сказать ему, подхватила из супротивного окна Барбаручья, надевая в то же время серьгу в свое ухо: пусть скажет мне, я ему передам.







