
Нина Филиппова
Как бы человек не был счастлив
© Нина Филиппова 2019
© Интернациональный Союз писателей, 2019
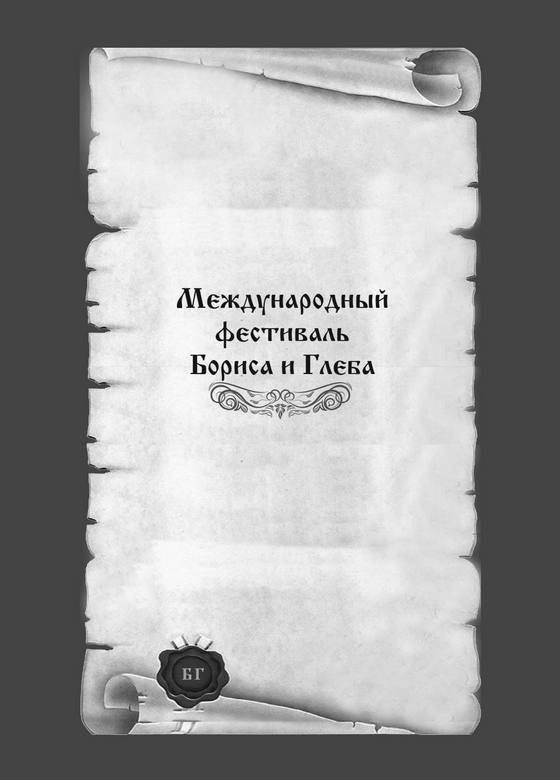
* * *

Филиппова Нина Александровна
Родилась и окончила школу на Камчатке.
После окончания Казахского политехнического института работала по специальности в Алма-Ате. Затем, после окончания Курсов организаторов кинопроизводства при Госкино КазССР, – на киностудии «Казахфильм» в должности замдиректора картины. После Высших курсов сценаристов и режиссёров при Госкино СССР в Москве – кинодраматург (мастерская Валерия Фрида).
До экрана дошли два полнометражных сценария: один – на студии Ролана Быкова в Москве, другой – в Алматы на коммерческой студии «Фортуна».
ИСТОЧНИК ЖАЖДЫ
Не всякий, длани кто простёр,
поймать сумеет долю злую.
Как бабочка – я на костёр
лечу
и огненность целую.
С. Есенин. «Цветы»
Весна
Полумрак комнаты охраняли чёрные шторы на окнах. От сквозняка тяжёлый бархат иногда лениво покачивался, и солнечный свет вливался между портьерами. Самад лежал на диване и, кажется, спал. Тихо открылась белая дверь, вошёл старший брат в костюме и при галстуке. Он что-то искал, сначала осторожно, потом всё больше раздражаясь, расталкивая книги на полках, стуча дверцами шкафов, наконец он подошёл к столу и торопливо достал из-под блюда с ягодами свой научный труд по математике.
– Зачем тебе понадобилась моя диссертация? – Он пролистывал страницы и понемногу успокаивался. – Если всё время лежать, лежать, лежать… я не понимаю, зачем жить?
– Иди, брат, иди! – приподнял голову Самад, – труд сделал из обезьяны человека. Может, и тебе повезёт.
– А ты уже и такую надежду потерял? – ухмыльнулся брат, поправляя галстук.
– Моей перспективы в мартышкиных надеждах нет.
– Приятных сновидений, – пожелал брат и вышел.
Самад вздохнул, встал и отодвинул портьеру. Солнце ослепило его. День был в разгаре. Внизу под окнами раскинулась рыночная площадь – людской водоворот, разноцветный, шумный. Самад помахал обеими руками белокурой девушке внизу, но она не заметила его. Он опустил штору, и из полутьмы комнаты к нему приблизились чёрные глаза матери:
– Сын, – Губы её брезгливо искривились, – какие у тебя планы с этой… – она показала за окно, – Белобрысой?
Самад покраснел и выпалил:
– Я люблю её, мы поженимся.
– Она русская! – Рассмеялась мать и задумалась. – Это ужасно. Тогда ты мне не сын.
Самад остановился перед зеркалом, изучая своё припухшее и снова побледневшее лицо:
– М… М…
– Ты ведь ни одного экзамена в жизни не сдал! – Высокие брови матери поднялись. – И только благодаря мне заканчиваешь университет!
– Напиши приказ об отчислении – ты проректор.
– Я просто не понимаю тебя! У тебя есть нормальная невеста! Послушная, красивая девочка, дочка премьера! А это и перспектива, и дом, и надёжность!..
– Мама, мне ведь, в сущности, ничего не надо. Не надо мне ни жены, ни дома, ни перспективы твоей, ни мамы, ни папы! Мне всегда надо было другое.
– Что же это тебе надо было? – холодно улыбнулась мать, и он медленно оглянулся на неё, направляясь к выходу:
– Это то, где другой дом и другая перспектива, и другая жена…
Она вцепилась сыну в руку, уловив в глазах его какую-то странную неподвижность. Её пальцы, удерживающие его, побелели:
– Что это? Что ты выдумал?!
Он хотел сделать что-нибудь ненавистное, но лишь выговорил тихо:
– Это любовь.
Она с ожиданием смотрела ему в глаза.
– Это любовь, мама, – повторил он, и дверь закрылась за ним.
Мать отвела штору, увидела, как Самад подошёл к своей белокурой подруге, как они сели в машину с надписью «Киносъёмочная», и усмехнулась.
На выезде из города навстречу «Киносъёмочной» выбежал крупный человек в расстёгнутой рубахе и босиком. Водитель кивнул в его сторону:
– Это а-Моисей, администратор. А-заберём?
Моисей сел к ним в машину, погладил себя по голому животу и обратился к водителю:
– Васька, дай сандалии. Я твою пиротехнику перевернул. Сегодня снимем без дыма.
Водитель протянул ему обувь. Была жара. В окне мелькали тополя, между ними мигало небо. Моисей надел сандалии и, подняв свой томный взор, с такой страстью скользнул по телу белокурой подруги Самада, что ту бросило в жар.
– Авва Отче! – обалдел Моисей. – Откуда такое?!
Его восклицание повисло в воздухе, и он спросил у водителя:
– Неужели из ребра? – Он повернулся к Самаду, но тот уставился в окно.
Машина остановилась у ворот особняка, за которым заснеженные горные вершины вырастали из светлой зелени предгорий. Водитель Вася показал Самаду на артиста, который стоял на самом солнцепёке, и предложил:
– Вот он. Позвать?
– Нет. Я подожду.
Костюмерша застёгивала армейские бутсы на ногах артиста, ассистенты вешали на него бронежилет, автомат, гранаты, ножи, пистолеты…
– Ручного истребителя у меня нет, а здесь за-азатвор а-заедает, – сказал Вася и вручил артисту последнюю винтовку. Артист натянул на лицо чёрную маску и отчеканил, дыша в лоб режиссеру:
– Ванька-Встанька, серия «Встать-305».
– Раздевайся! – раненой птицей вскрикнул режиссёр. – Васька! Забери у него все пушки!
Через минуту, когда с артиста, как с ёлки, слетели все виды вооружения, режиссёр хлопнул его по голой груди: мышцы от шлепка напряглись бронзовыми узлами.
– Это то, что надо. Во-от! – Режиссёр показал на улыбку артиста. – Вот главное оружие! Теперь грим.
Когда суета улеглась, Самад окликнул:
– Ариф!
– Привет! – Артист заметно обрадовался и подошёл. – Чёрт! Ты бледен, как смерть. Не болеешь?
– Нет. Ничего. Астма, как и в детстве. – Самад привлёк к себе белокурую девушку. – Это Катерина.
– О! – не скрыл восхищения артист.
– Познакомься, – сказал ей Самад, – это мой друг. С детства. Теперь вот артист. А раньше он спасал меня от шпаны и от родителей.
– Вы в главной роли!.. – задохнулась от волнения Катерина.
Самад сорвал ей голубой цветок, но, выросший словно из-под земли, Моисей потянул Катерину за собой, сначала легонько, потом настойчивее и… когда они совсем затерялись в садовом цвету, артист спросил:
– Ты давно с ней?
– Второй год.
– Любишь её?
– Больше злюсь, что почти не владею собой, – Самад понюхал сорванный цветок.
Гримёрша усадила артиста под яблонькой и принялась рисовать ему тоны, тени, шрамы…
Самад, в ожидании его, расположился на траве и стянул с себя стильную майку. Несмотря на высокий рост, сложением он был как мальчик: гладкое смуглое тело без единого волоска и без единого мускула.
После съёмок он привёз артиста на свою обширную дачу. Уже на подходе было слышно, как гремела музыка. Прямо перед входом парочка любителей древности в звериных шкурах застыла в йоговских позах, далее возлежали молодые люди в оранжевых простынях. Тройка энтузиастов с перьями на бёдрах и просто пижоны курили анашу, изредка выплывали аскеты в семейных трусах и валенках на голых ногах…
Из дымной завесы возник Моисей:
– Вас зовут Самад? Шикарная дача! И музыка! Фа-баду-да-пу-пу-пу… Джими Хендрикс, кажется? – Моисей бесцеремонно разглядывал Самада с головы до ног. – Чёрт! Эта блестящая змейка на вашей сорочке! Если бы не ваши глаза… я решил бы, что вы стиляга… Кожаные штаны, – Моисей хлопнул Самада по бедру. – Такое обтекаемое тело…
– Давай! – не шелохнувшись, ответил Самад. – Налево! Кругом! Шагом марш!
Моисей вытянул руки по швам, развернулся на триста шестьдесят градусов и, маршируя на месте, взял за локоть подошедшую Катерину:
– Теперь я понимаю, почему эта барышня восхищается только вами, Самад! Я ревную, честное слово!
Катерина теребила руку Самада и заглядывала ему в глаза:
– Такое впечатление… слышишь, Самад? Такое впечатление, что мы знакомы так давно! Так давно знакомы с Моисеем! Слышишь? – спрашивала она, сжимая безжизненные пальцы Самада. – Мы разведём костёр во дворе, приходи! Мы во дворе, приходи! Я буду ждать…
Самад давно смотрел поверх их голов: там, на дальней стене, метались танцующие тени, в середине чей-то всклокоченный силуэт курил трубку. Его то и дело толкали другие силуэты, но он старался стоять спокойно. Обняв друг друга, Катерина и Моисей ушли… Самад подумал, что он уже видел их уходящих. Ещё задолго до того, как родился, он это видел и знал. Знал всё заранее. Он смотрел на танцующие тени и соображал: хочет он или боится приблизиться к тому, ОТКУДА он это знал?
– Моисей не выпустит Катерину, – услышал он голос артиста, – на киностудии почти все женщины – это его гарем.
– Зато как блестят её глаза! – отметил Самад.
– Хочешь, я отправлю его отсюда? – предложил актёр.
– Зачем? Раз ей так хочется. Пусть всё будет естественно, – Самад как будто просыпался от долгого сна.
– Для них это, может, и естественно, а для тебя?
– Не имеет значения.
– Да на тебе лица нет. Я же вижу.
– То, что ты видишь, тоже не имеет значения, – перебил Самад, давая понять, что разговор окончен.
К ним подошёл пиротехник Вася:
– Клёвое а-место! – Он покрутил задом в такт ритму и принюхался. – Травка… А пожрать есть? Нету?.. Жаль. У нашего режиссёра столы а-ломятся, обмывают отъезд, тебя требуют, – обратился он к артисту.
Все трое пошли к машине. Там спал усталый ассистент. Он расположился на «жмуриках» – тряпочных куклах человеческого размера, набитых соломой. «Жмурики» изображали висельников для трюковых сцен. Усевшись за руль, Вася нажал на сигнал:
– За-а-забыли Моисея забрать. Вот он бестия! Повезло арабам, что он не в Израиле.
– Да, – ухмыльнулся Самад, – и не надо его отвлекать. Поехали.
У режиссёра пир действительно стоял горой, когда в приоткрытой двери показалось растерянное лицо артиста, потом в дверном проеме возник он весь, трясущийся и какой-то обалдевший.
– О! Наконец! – раздались приветственные возгласы. – Проходи! Выпей!
Но артист мотал головой, переминался с ноги на ногу и молчал, пока все не обратили внимание на его взъерошенный и перепуганный вид. Наступила тишина.
– Что? – спросил режиссёр.
– М-моисей… – артист осёкся, руки его дрожали.
– Что! Что такое! Говори же! – крикнул режиссёр.
– Моисей в своем номере…
– Ну не тяни, господи! – Режиссёр подскочил к нему и тряхнул за плечи. – Опомнись, супермен хренов!
– Моисей в своём номере… до смерти затрахал бабу какую-то, – кое-как выговорил артист.
– Так и знал, – присел режиссёр, – так и знал, что этим всё кончится! Где? Покажи, где?
Вся толпа высыпала в коридор и направилась к номеру Моисея. В тишине на кого-то напала икота. На кровати лежало безжизненное тело, закрытое простынёй.
– Где он? – шептал режиссёр, – где он сам? Сбежал, пакостник! Я должен посмотреть, я обязан! – он осторожно приподнял простыню, приоткрыл голову и грудь жертвы и выпучил глаза. – Дак это ж мужик!
Кто-то охнул, кто-то захохотал. Режиссёр схватился за сердце: в постели под простынёй лежал «жмурик-висельник» с закатившимися глазами. Поднялся гвалт, смех и визг. Артист машинально поймал падающий стакан, и чья-то рука наполнила его вином. Вокруг закружились кружки, чашки, пиалки. Самые азартные танцевали с куклой-висельником аргентинское танго, выкрикивали тосты за здоровье Моисея и его «жертв»!
Артист пытался узреть среди толпы разгулявшихся киношников Самада. Но тот поначалу стоял в стороне ото всех, потом развернулся и пошёл, руки в брюки, по тёмной дороге. Артист догнал его, пошёл рядом, но кто-то позвал из темноты:
– Ариф!
Потом хор из нескольких голосов:
– А-риф!
– По тебе уже соскучились, – заметил Самад. – Возвращайся, шутник. Потом как-нибудь чайку попьём.
– Когда оно будет, это «потом»! – остановился артист. – Ну ладно, хотя бы передай привет отцу и матери.
Самад пошёл дальше: его дача, вернее, дача его родителей, была неподалёку: минут двадцать ходьбы. Когда он вернулся туда, во дворе ещё тлел костёр, повсюду были разбросаны увядшие цветы, перья, окурки, серпантин. Он вошёл в дом через ближайшее окно, хотел включить свет, но услышал страстные стоны, доносившиеся из соседней комнаты, возню, скрип кровати, бормотание. Самад узнал голос Моисея. Томные стоны он тоже узнал.
– Катерина! – Он сел на диван, потом лёг на бок, сложив руки на груди и сжав кулаки. Так, одетый как стиляга, он лежал, уставившись в стенку, слушая любовные причитания, звуки поцелуев и сопение. Казалось, тело его светится через одежду, как лампа через абажур. Потом послышались шаги и всхлипы из ванной. Плакала Катерина. Рыдала. Потом снова возня и ласковый басок Моисея. Слышно было, как оставшиеся на даче люди собирались перекусить, снова загремела музыка. От недосыпа глаза Самада были красные, и когда вошла Катерина и тихо позвала: «Пойдем…» – он сказал:
– Глаза режет.
– Ты давно пришёл?
– Да.
– Ну… – растерялась Катерина, – что?..
– Всё хорошо, – Самад не шевелился, и его удивил собственный голос, в котором не было ни капли волнения.
– Только не ври хоть мне! – вдруг крикнула она с отчаянием.
– Иди, пей чай. Пейте там чай. Меня тянет рвать. Иди.
Она ушла сквозь стены и закрытые двери его дачи, сквозь садовые деревья и высокий забор соседа, как привидение. Он так чувствовал и не смотрел ей вслед.
…Самад очнулся на полу опустевшей дачи от удушья, закашлялся, и из вскрытой вены снова полилась кровь. Он машинально разжевал и проглотил таблетку, чтобы унять кашель, и уставился на кровь вокруг себя:
– Бык! – почему-то сказал он и увидел своё бледное, всклокоченное отображение в зеркале. – Фу! – продохнул он, хотел встать, но комната плыла перед глазами, и земля уходила из-под ног, хотя кашель прекратился и кровь больше не лилась. Он на четвереньках подобрался к дивану, набрал по телефону 03:
– Скорая, – сказал он еле слышно, – здравствуйте, девушка. Алло! – изо всех сил крикнул он. – Я говорю, тут один псих скоро подохнет! Вскрыл вены! Приезжайте, может, откачаете. Вскрыл вены, говорю!.. Тут спрашивают, как тебя зовут, ублюдок? – обратился он к своему отражению в зеркале, – А?! Как зовут, спрашиваю? – потом устало ответил в трубку. – Не знаю, девушка, я… забыл его имя. Он молчит, говорю, а я забыл его имя…
Дипломы об окончании университетского курса вручал ректор. Среди аплодирующих преподавателей стояла мать, грустный отец был среди представителей власти. Брат хлопал в ладоши в кучке аспирантов и выпускников, уже получивших документы. После Самада диплом вручили Катерине, которая училась с ним в одной группе. Заметив, что Самад уходит, она догнала его почти у выхода из банкетного зала:
– Ты не останешься на банкет?
– Я сыт.
– А куда тебя распределили?
– На какой-то индустриальный флагман.
– А у меня свободный диплом.
– Поздравляю. Я пошёл.
– Самад, я так много должна сказать! Прости меня!
– За что, любимая?
– Это из-за меня ты… – она дипломом чиркнула по венам, как бритвой.
– Я никогда не был из-за тебя. А ты никогда не была из-за меня. Не грусти.
– Но ты не представляешь! – воскликнула она, – что ты для меня есть! Что ты для меня значишь!
Белый пузырёк из жвачки на губах Самада рос-рос и лопнул:
– Ой! Извини. Я слышал, ты уезжаешь? Куда?
Катерина неопределённо махнула рукой.
– Я желаю тебе лёгкой дороги, – сказал он, уходя.
– И я тебе, – прошептала она ему в спину.
Спустя неделю к воротам крупного заводского комплекса катил чёрный лимузин, и на заднем сидении его, рядом с директором, сидел Самад. Он читал статью в газете под названием «Политика, геополитика, власть».
– Мне симпатична твоя сдержанность, – говорил директор. – Никогда не видел, чтобы ты много разговаривал.
– Что вы! – отложил газету Самад. – В детстве я был просто балаболкой.
– Сегодня ты возьмёшь полномочия зампреда. Должен сказать, что это – золотое дно. Но ты способный мальчик, и я думаю, тебя ждёт большое будущее.
– Спасибо.
– У твоего отца должность почти первая в республике, и мужик он неплохой, но… – директор надул щёки, изобразил «пшик».
– Если каждый день сидишь за золотым столом с алмазными винами, прохладный ветер в душе скоро становится ледяным, – В смиренном голосе Самада слышалась печаль.
Директор подозрительно покосился на него:
– Я слышал, ты поступал в институт какой-то международный, востоковедения, что ли… Помню, твои родители были очень против.
– Да, это было лет пять назад.
– Ну, это ничего страшного, что провалился…
– Я поступил тогда.
– Да?! – удивился директор. – А что же ты здесь?
– Я тогда приехал в столицу России, а со мной на курсе одни азиаты узкоглазые оказались, вот как мы с вами, – Самад пальцами растянул свои раскосые глаза ещё больше. Водитель, разинув рот, оглянулся на него.
– Смотри на дорогу! – рявкнул ему директор.
Машина вильнула и выровняла ход.
– Я думаю, вы меня понимаете, – продолжил Самад. – Какой смысл жить вне дома, но в том же окружении?
Машина остановилась.
– Ты и вправду балаболка, – пропыхтел директор, выходя из лимузина.
Они с Самадом поднялись на второй этаж административного здания.
– Извините! – Самад нырнул в туалет.
Директор, надув губы, проследовал дальше по коридору. Самад наклонился над умывальником, положил мокрые ладони на лицо, побулькал водой во рту, расстегнул верхние пуговицы рубашки, выйдя из туалета, подошёл к двери с эффектной табличкой «Председатель», хотел войти, но остановился, передумав. Снял свой галстук и подвесил его на золочёную ручку этой высокой двери. Потом выглянул в окно и крикнул, увидев, что директорский лимузин разворачивается во дворе:
– Подожди!
Шофёр поднял руку, давая знать, что слышит, и через несколько секунд Самад оказался рядом с ним:
– В горы. Быстро!
– Директор за почками послал? – благодушно спросил шофёр. Самад кивнул, и скоро они подъехали к хвойной роще.
– Рви, – сказал шофёр.
– Нет, поехали дальше, выше по дороге.
– Выше ещё холодно и почек нету, – недовольно подчинился шофёр. – Нас всё равно далеко не пустят. Говорят, опасность оползней.
– Пропустят. Говори: «Рубаев разрешил». Пропустят.
– Да не пропустят.
Их остановили на контрольном пункте:
– Куда?
– Выше. Рубаев разрешил, – ответил шофёр.
– Проезжайте.
Они поднимались по ущелью. С одной стороны дороги был обрыв, с другой – круто взмыли вверх каменистые склоны. Белые вершины впереди золотило солнце, кое-где синие стрелы голых скал вырывались из снежного покрова.
– Там нет ни одной ёлки! Я не понимаю, куда мы едем?
Самад посмотрел в боковое стекло, взгляд его упёрся в скалу. Шофёр поглядывал вниз, где глубоко на дне ущелья шумела речка. Их остановила спасательная служба:
– Стоп! Назад. Трёх альпинистов накрыло лавиной.
– Мы же не альпинисты, – усмехнулся шофёр, – и потом, Рубаев разрешил, вам-то чё!..
Спасатель отвернулся, и они въехали в туман. Шофёр ещё больше сбавил ход, они ехали уже по грунтовой дороге, и облачко, покрывшее их, через несколько секунд растаяло под колёсами. Впереди на обочине стояла самоходка без пушки, от неё навстречу им решительно шагал мужик с камчой и в ватнике и ругался, судя по лицу, последними словами.
Наблюдая за его приближением, возник шофёр:
– Я не понимаю! Куда мы едем? Дальше только снег. Какие почки?!
– Какие почки? – в свою очередь удивился Самад.
– Ну а зачем едем-то? – раздражённо спросил шофёр. – И кто такой этот чёртов Рубаев?! – взорвался он.
– Это я. – Поклонился Самад.
Мужик в ватнике со свистом стеганул кнутом по их блестящей машине:
– Бар-раны! – ругался он, и самоходка, которая мирно тарахтела на обочине, вдруг понеслась на них, набирая скорость. Растеряв недавнее величие, лимузин попятился назад.
– Ну ты меня наколол! – рассмеялся шофёр, когда они поехали вниз с прежней респектабельностью. – Я думал, начальник какой-то этот Рубаев! А зачем вверх-то пёрли?
– Да я всё думал, где выход.
– Сразу бы и сказал. Там дорога в тропу переходит, потом скала отвесная почти до дна ущелья. Я точно знаю, там дороги нет, – объяснил шофёр.
Когда снова показались пушистые ёлки, Самад сказал:
– Тормозни, я выйду. А ты, если хочешь, нарви директору шишек и передай от меня.
Он вернулся домой вечером и тихо открыл дверь. Шумели гости. Брат разговаривал с кем-то по-немецки. Самад прошёл в комнату и только сел на диван, как вошла мать:
– Где ты шлялся? – Она разглядывала себя в зеркало. – Вставай, выйди к гостям.
– Я устал.
– Устал! На работе ты не был. Дома палец о палец не ударил. Ждём тебя целый вечер…
Самад надел наушники. Ровный ритм ударных и истерическое соло Джими Хендрикса заставили его улыбнуться. Мать увидела это в зеркале:
– Ты не забыл случайно, – раздражённо заговорила она, – твой брат едет в Германию, читать курс лекций там в университете. Иди, поддержи его. В гостиной премьер-министр с семьёй…
Самад увеличил громкость и, закрыв глаза, затрясся под это сумасшедшее соло. Мать подошла, сдёрнула с него наушники и швырнула на пол. Самад перестал улыбаться, включил акустическую систему, и музыка заполнила весь дом. Вошёл отец, что-то спросил, но его совсем не было слышно, и он выдернул штепсель из розетки.
– Сын, – спросил он спокойно, – что случилось?
– Ничего, – ответил Самад.
– Ты выйдешь к гостям?
– Да, папа.
– Какой-то грязный весь! – Мать достала Самаду другую одежду. – Переоденься.
В зале, где за столом расположились гости, беззвучно работал телевизор. Самад раскланялся всем и сел рядом с братом, который оживлённо говорил с двумя немцами о прогрессиях и пределах.
– Слышал, слышал о твоих успехах на производстве! – обратился к Самаду сидящий напротив премьер и положил ладонь на плечо дочери. – Гаухар тоже заканчивает консерваторию, станет известной скрипачкой. Мы оба рады за тебя.
– Любишь музыку? – обратился Самад к девушке.
– Да.
– Сыграй нам, дочка, – попросил её премьер.
Девушка поднялась из-за стола, стройная и высокая. Густые волосы, слегка перехваченные лентой, доставали до пояса.
– Не обращайте внимания, – обратилась она ко всем, открывая футляр со скрипкой. – Я пока настрою.
– Вот твоя настоящая жена! – прошептала мать на ухо Самаду и поставила возле него блюдо с жареным мясом.
Гаухар заиграла нежную мелодию.
– Давай, сынок! За мою дочь, за твою будущую жену! – Премьер поднял бокал шампанского и выпил.
– У меня от шампани голова болит, налью компот, – Самад потянулся было за графином, но сестра толкнула его в плечо, воскликнув:
– Смотри, братишка! Кого по телевизору показывают! Ну, смотри же! – теребила она его и включила звук. Все уставились в телевизор. Там на весь экран светилось лицо артиста. Журналист спрашивал у него:
– Ариф! Вы были чемпионом республики по дзюдо. Сейчас вы оставили спорт?
Но мать снова убрала звук.
– О! – оживился Самад. – Я забыл вам передать привет от него. Он недавно был здесь на съёмках, но не успел зайти.
– Какой красивый! – Не находила места сестра. – Настоящая кинозвезда! Мама, включи звук… Зубы такие ровные! Как жаль, что меня не было, когда он приезжал! Мама, включи звук!
В телевизоре синело море, стоял на рейде лайнер, на губах артиста блуждала улыбка.
– Кто бы мог подумать, – качала головой мать, глядя на экран, – что он всё ещё живой и на свободе!
– А что такое? – спросил премьер.
– Родная мать вот этого недоноска, – она постучала по онемевшему экрану, – в детдом сдала. Потому что отчим приличный был человек. Отец его вообще неизвестно кто! Бандит какой-то. Дожились, что этот головорез учит нас жить!
– Вся рвань устремилась теперь наверх, – премьер отвернулся от телевизора. – Ну, – обратился он к Самаду, – когда свадьбу сыграем?
Через лоб Самада пролегла пухлая морщина:
– Знаете, я думаю, – он дотянулся до графина с компотом, – может быть, вам стоит найти более породистого жеребца, чем я? Дочка ваша – добрая племенная кобыла. Желающих только свистните, отбою не будет.
У премьера пропал голос, он чмокнул губами и встал. Самад, смущённо глядя ему в глаза, грохнул графином по экрану и согласился:
– Ладно. Дорогая! Я отдам тебе все фамильные сокровища! – Он пинком выбил стекло в серванте, взял хрустальный кубок. – Лей сюда вино! Вот это «Бычья кровь».
Гаухар сочувственно налила вино до краёв. Самад, слегка пригубив, запустил его по столу. Массивный кубок отплевался пурпурной влагой и опрокинулся. Вместо красной тряпки Самад сдёрнул со стола дорогую скатерть. Отец решительно направился к нему, но Самад, подобрав длинный кухонный нож и сделав выпад, как тореро, полоснул брата, который тоже хотел его остановить, и распорол тому пиджак.
– Не лезь – сказал он брату.
Отец, вдруг обессилев, опустился в кресло.
Самад разбивал шкафы и окна, вспарывал пуховые подушки, от ветра из окон пух кружился, и в комнате как будто шёл медленный снег:
– Наше ложе должно быть райским. Мы утонем в нём и не захотим всплывать, – угрюмо говорил он и резал ковры на стенах.
– Позор! – кричала одна мать. – Остановите его! На помощь!
Повоевав с мебелью, Самад выдернул ремень из брюк, сорвал с себя сорочку и позвал невесту:
– Иди ко мне! – штаны сползли на пол. Перешагнув их, он воззвал снова:
– Иди же! Вот он я!
Женщины все, кроме матери, разбежались по комнатам.
– Скорая! – кричала в трубку мать. – Заберите! Умоляю! Буйный! Свинья неблагодарная!
Самад, разрезав ножом плавки и оставшись нагишом, пытался открыть захлопнувшуюся перед ним дверь в спальню:
– Где же ты, моя жалостливая невеста! – Он ударил пяткой в дверь. – Ты хотела быть моей женой или вторым Паганини?
– Сейчас приедут! – донёсся до него голос матери.
– А! – отметил Самад. – Тогда я пойду их встречу.
У выхода он включил свет и, шаря ладонью по зеркалу, спросил у своего отражения:
– Где тут должно болеть? – Он остановил ладонь слева на груди, прислушался. – Не слышу, чтобы оно стучало. Не трепыхается. Хол-лодное стекло! – Он ударил ножом в грудь своему отражению. И ушёл. Вслед ему кто-то ругался, кто-то рыдал, кто-то смотрел… По улице шла близорукая девушка. Она не заметила, что к ней приблизился голый человек. Только когда Самад хотел коснуться лезвием её плеча, девушка бросилась бежать. Подъехала «скорая», из неё выкатились три санитара.
– Брось оружие! – крикнул один из них.
Самад пошёл им навстречу со словами:
– Я безоружен!
– Брось оружие! – снова крикнули ему, сохраняя дистанцию, и он с силой воткнул нож в землю.


