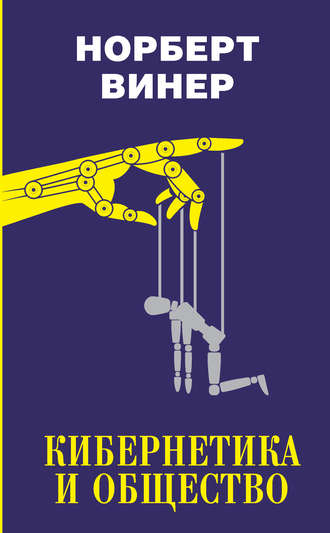
Норберт Винер
Кибернетика и общество (сборник)
Norbert Wiener
The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society
© Norbert Wiener, 1950, 1952, 1954
© Renewed by Margaret E. Wiener, 1982
© The Massachusetts Institute of Technology, 1964
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Кибернетика и общество. Человеческое применение человеческих существ
Памяти моего отца Лео Винера, бывшего профессора славянских языков в Гарвардском университете, моего ближайшего наставника и самого приятного из оппонентов
Предисловие. Идея контингенциальной вселенной
Начало XX века ознаменовалось не просто рубежом между окончанием одного столетия и началом другого. Еще до того, как человечество совершило политический переход от мирного в целом столетия к недавно пережитому нами полувеку войн, произошло фактическое и полноценное изменение взгляда на мир. По всей видимости, эта перемена проявляется прежде всего в науке, хотя вполне возможно, что явления, оказавшие влияние на науку, самостоятельно и независимо привели к наглядно наблюдаемому ныне разрыву между искусством и литературой XIX века и искусством и литературой века двадцатого.
Ньютоновская физика, которая почти безраздельно господствовала с конца XVII столетия до конца XIX века, описывала Вселенную, где все происходит в точном соответствии законам; по сути, это была компактная, строго организованная Вселенная, где будущее непосредственно и неопровержимо зависело от прошлого в его цельности. Подобную картину мира нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть посредством экспериментальных методов; она в значительной степени соотносится с таким представлением о мире, которое признается дополняющим эксперименты, однако в некотором отношении оказывается более универсальным, чем что угодно, подтверждаемое опытным путем. Наши несовершенные эксперименты не в состоянии установить, подлежат ли проверке до последнего знака десятичной дроби те или иные ряды физических законов. Впрочем, из ньютоновской точки зрения следовало, что излагать и формулировать физику надо так, словно она в самом деле подчиняется указанным законам. Сегодня такая точка зрения больше не является доминирующей в физике, и этому перевороту больше всего способствовали Людвиг Больцман в Германии и Дж. Уиллард Гиббс в Соединенных Штатах Америки.
Эти два физика отыскали радикальное применение новой, вдохновляющей идеи. Возможно, использование в физике статистики, что, собственно, и принесло им известность, не было чем-то совершенно новым, поскольку Максвелл и другие ранее уже рассматривали миры, состоящие из очень большого числа частиц, и для таких миров по необходимости предполагалось статистическое исследование. Но Больцман и Гиббс внедрили статистику в физику гораздо более масштабно и цельно, благодаря чему статистический подход приобрел значимость как для систем высокой сложности, так и для простейших систем наподобие индивидуальных частиц в силовом поле.
Статистика есть наука о распределении, а распределение, на которое опирались эти современные ученые, учитывало не большие количества одинаковых частиц, но разнообразные начальные позиции и скорости – исходные условия какой-либо физической системы. Иными словами, в ньютоновской системе одни и те же физические законы применяются к многообразию систем, проистекающему из разнообразия позиций и разнообразия состояний. Новые статистики стали рассматривать эти отношения в новой перспективе. Они ни в коем случае не отвергли принцип, согласно которому системы различаются степенью полноты энергии, но отказались от предположения, будто системы с одинаковой полной энергией возможно четко (и сколько угодно) различать и описывать посредством фиксированных каузальных законов.
Следует отметить, что важные статистические параметры присутствуют уже в трудах Ньютона, пускай XVIII столетие, жившее по Ньютону, эти параметры игнорировало. Никакие физические измерения не являются совершенно точными; то, что у нас найдется сказать о машине или о любой другой динамической системе, в действительности относится не к тому, чего нужно ожидать, когда начальные позиции и состояния заданы с предельной точностью (подобного попросту не бывает), но к тому, чего мы можем ожидать, когда перечисленные условия заданы с достижимой степенью точности. Проще говоря, мы знаем вовсе не начальные условия в их полноте, а лишь кое-что об их распределении. Если выразиться иначе, функциональная часть физики обязана учитывать неопределенность и контингенциальность[1] событий. Заслуга Гиббса состоит в том, что он первый предложил научно обоснованный метод рассмотрения указанной контингенциальности.
Историк науки тщетно будет искать единую линию развития. Исследования Гиббса, прекрасно скроенные, были, так сказать, плохо сшиты, и уже другим досталось завершить начатый им труд. Прозрение, на котором он строил свои исследования, заключалось в том, что в обычных условиях физическая система, продолжающая сохранять специфические черты некоего класса, почти всегда развивается так, что начинает воспроизводить распределение, которое демонстрирует в любой произвольно взятый момент времени во всем классе систем. Иначе говоря, при определенных обстоятельствах система проходит через все распределения позиций и состояний, совместимые с ее энергией, если продолжает действовать достаточно долго.
Впрочем, это последнее допущение не является ни истинным, ни возможным где угодно, помимо элементарных, простейших систем. Тем не менее существует другой путь, ведущий к результатам, которые требовались Гиббсу для подкрепления своей гипотезы. По иронии истории, этот путь весьма тщательно изучался в Париже как раз тогда, когда Гиббс работал в Нью-Хейвене; однако лишь не ранее 1920 года парижские и нью-хейвенские исследования наконец объединились в плодотворном союзе. Полагаю, мне выпала честь помогать рождению первого ребенка этого союза.
Гиббсу приходилось опираться на теории измерений и теории вероятностей, которые использовались уже минимум двадцать пять лет и которые во многом не соответствовали его потребностям. А между тем в то же самое время в Париже Борель и Лебег разрабатывали теорию интеграции, которая, что выяснилось позднее, отлично подходила для воплощения идей Гиббса. Борель был математиком и успел завоевать репутацию в области теорий вероятности; вдобавок он обладал отменным чутьем физика. Он выполнил работу, что легла в основу данной теории измерений, но не сумел достичь той ступени, когда фрагменты рассуждений становятся цельной теорией. Это сделал его ученик Лебег, который был человеком совершенно иного склада. Он не обладал чутьем физика и нисколько не интересовался физикой. Однако Лебег решил поставленную Борелем задачу, хотя и рассматривал решение этой задачи всего лишь как способ исследования рядов Фурье и других разделов чистой математики. Произошел конфликт, когда обоих этих ученых выдвинули кандидатами во Французскую академию наук, и только после бесчисленных взаимных нападок они оба удостоились чести стать академиками. Правда, Борель продолжал подчеркивать важность изысканий Лебега и своих собственных как инструмента для исследований в физике, но, по-моему, именно я в 1920 году первым применил интеграл Лебега к конкретной физической задаче – если быть точным, к задаче броуновского движения частиц.
Это произошло много лет спустя после смерти Гиббса; на протяжении двух десятилетий его гипотезы оставались одной из тех загадок науки, которые плодоносят, даже если кажется, что они никак не должны плодоносить. Многие ученые выдвигали догадки, значительно опережавшие свое время; это в полной мере относится и к области математической физики. Введение Гиббсом вероятности в физику случилось задолго до появления адекватной теории таких вероятностей, которые ему требовались. При всех пробелах в его постулатах я убежден, что именно Гиббсу, а не Альберту Эйнштейну, Вернеру Гейзенбергу или Максу Планку следует воздавать должное за первую великую революцию в физике XX века.
В итоге этой революции физика перестала притязать на изучение того, что происходит всегда; теперь она изучает, скорее, то, что происходит с преобладающей степенью вероятности. Вначале в работах самого Гиббса этот контингенциальный подход опирался на ньютоновское основание, элементы которого, чью вероятность надлежало выявить, трактовались как системы, подчиняющиеся ньютоновским законам. Сама теория Гиббса была по своей сути новой, но варианты, с которыми она была совместима, оставались теми же, какие рассматривал еще Ньютон. В дальнейшем же с физикой произошло следующее: косный ньютоновский базис был отброшен – или хотя бы серьезно модифицирован, а контингенциальность Гиббса превратилась ныне, во всей своей наготе, в полноценную основу современной физики. Конечно, следует признать, что данный предмет еще далеко не исчерпан и что Эйнштейн и, в какой-то мере, Луи де Бройль придерживаются той точки зрения, что строго детерминированный мир является более приемлемым, чем мир контингенциальный; но эти великие ученые ведут арьергардные бои против подавляющих сил молодого поколения.
Отмечу любопытную перемену, суть которой состоит в том, что в вероятностном мире мы больше не имеем дел с величинами и рассуждениями, подразумевающими определенную, реальную Вселенную в целом; вместо этого мы задаем вопросы, ответы на которые можно отыскать, допустив существование большого числа аналогичных вселенных. Следовательно, случай признан не только как математический инструмент исследований в физике, но и как ее неотделимая часть.
Такое признание наличия в мире элемента неполного детерминизма, почти иррациональности, в известной степени равнозначно обнаружению Фрейдом глубоко иррациональной составляющей человеческого поведения и мышления. В современном мире политической и интеллектуальной неразберихи налицо естественное стремление объединять Гиббса, Фрейда и приверженцев нынешней теории вероятности в группу выразителей некой общей тенденции; но я не хотел бы настаивать на этом. Разрыв между образом мышления Гиббса – Лебега и интуитивными, пускай в некотором отношении вроде бы продиктованными логикой допущениями Фрейда слишком велика. Однако в признании фундаментальности роли случая как элемента самой Вселенной эти ученые очень близки друг другу – и близки традиции, восходящей к святому Августину. Ведь этот элемент случайности, эта органическая неполнота вполне сопоставима (причем здесь не приходится прибегать к риторическим преувеличениям) со злом; святой Августин характеризует отрицание добра, то есть зло как несовершенство, в отличие от положительного (и предумышленного) зла манихейцев[2].
Настоящая книга посвящена рассмотрению воздействия точки зрения Гиббса на современную жизнь – с позиции тех непосредственных изменений, которым подверглась нынешняя наука, и с позиции тех изменений, которые косвенным образом повлияли на наше отношение к жизни вообще. Посему следующие главы содержат и технические описания, и философские обсуждения вопросов наподобие того, что мы должны делать и как нам реагировать на новый мир, нам противостоящий.
Повторяю, нововведение Гиббса заключалось в том, что он стал рассматривать не единственный мир, а все те миры, где можно найти ответы на ограниченный круг вопросов, касающихся нашей среды обитания. Гиббс сосредоточился прежде всего на степени, до которой наши ответы относительно одного набора миров будут допустимы по отношению к другому, более крупному ряду миров. Кроме того, Гиббс предполагал, что такая вероятность имеет естественную тенденцию к возрастанию по мере старения Вселенной. Подобное направление вероятности называется энтропией, а характерная черта энтропии заключается именно в возрастании.
По мере возрастания энтропии Вселенная – и все замкнутые системы во вселенной – выказывает естественную склонность к упадку и утрате своих отличительных черт; она стремится от наименее вероятного состояния к наиболее вероятному, от состояния организованности и дифференцированности, в котором наличествуют различия и формы, к состоянию хаоса и единообразия. Во Вселенной Гиббса порядок наименее вероятен, а хаос, наоборот, наиболее вероятен. Но пускай Вселенная в целом, если таковая действительно существует, движется к увяданию и гибели, имеются локальные анклавы, направление развития которых, по-видимому, противоположно направлению развития Вселенной в целом, и этим анклавам свойственно ограниченное, временное стремление к увеличению организованности. Жизнь находит себе приют в некоторых из таких анклавов. Именно исходя из данного положения начала свою научную эволюцию кибернетика[3].
Глава I. Кибернетика в истории
После Второй мировой войны я работал над многими разделами теории передачи сообщений. Помимо электротехнической теории передачи сигналов существует более обширная область знаний, охватывающая не только исследование языка, но и изучение сообщений как способов управления машинами и сообществами; сюда же относятся разработка вычислительных машин и других подобных автоматов, некоторые психологические опыты и исследования нервной системы, а также новая, осторожно применяемая теория научного метода[4]. Эта более обширная наука о сообщениях представляет собой вероятностную теорию и является неотъемлемой частью того научного течения, которое обязано своим происхождением Уилларду Гиббсу и которое я уже кратко описал в предисловии.
До недавнего времени не существовало общего слова для характеристики этого комплекса идей, и, дабы охватить всю область одним термином, я счел себя обязанным изобрести такой термин. Так появился термин «кибернетика», производное от греческого слова kubernetes, то есть «рулевой, кормчий»; от того же греческого слова происходит в конечном счете слово governor («губернатор, правитель»)[5]. Позднее я совершенно случайно выяснил, кстати, что данный термин ранее употреблял Андре Ампер применительно к политической науке, а в другом контексте он был введен одним польским ученым; оба этих употребления термина «кибернетика» относятся к первой половине XIX века[6].
Я написал более или менее техническую книгу под заглавием «Кибернетика», опубликованную в 1948 году. Отвечая на пожелания публики сделать изложенные в этой книге идеи доступными для неспециалистов, я опубликовал в 1950 году первое издание работы «Человеческое применение человеческих существ». С тех пор мои идеи, разделяемые докторами Клодом Шенноном и Уорреном Уивером, разрослись в полноценную область исследований. Посему я воспользовался возможностью переиздания второй книги, чтобы обновить ее содержание и устранить обнаруженные недостатки и непоследовательность в первоначальной структуре текста.
Давая определение кибернетики в первом варианте работы, я отождествлял понятия «коммуникация» и «управление». Почему я так поступал? Вступая в коммуникацию с кем-то другим, я передаю этому другому сообщение, а он, также вступая в коммуникацию со мной, отвечает мне сообщением, имеющим отношение к первому, причем оно содержит информацию, первоначально доступную ему и недоступную мне. Управляя действиями другого человека, я тоже передаю ему сообщение; пускай этот сигнал поступает в императивной форме, техника коммуникации не отличается от техники коммуникации при передаче сообщения о каком-либо факте. Вдобавок, чтобы управление с моей стороны оказалось эффективным, я должен понимать любые сообщения, поступающие от другого и способные указывать на то, что мой приказ осознан и выполняется.
Исходный посыл данной книги состоит в том, что понимание общества возможно исключительно посредством изучения сообщений и используемых для их передачи средств связи; в будущем развитию этих сообщений и средств связи, коммуникации между человеком и машиной, между машиной и человеком и между машиной и машиной суждено играть все возрастающую роль.
Когда я отдаю приказ машине, эта ситуация принципиально не отличается от той, которая возникает, когда я отдаю приказ какому-либо человеку. Иначе говоря, для моего сознания важно то, что я осознаю отданный приказ и полученное сообщение о повиновении. Лично для меня тот факт, что сигнал в своих промежуточных перемещениях проходит через машину, а не через человека, не является релевантным и не изменяет сколько-нибудь существенно мое отношение к этому сигналу. Тем самым теория управления в машиностроении, будь то управление человеком, животным или механизмом, оказывается, так сказать, разделом теории передачи сообщений.
Разумеется, существует немалое различие в содержании сообщений и в проблемах управления не только между живыми организмами и машинами, но и для каждого более узкого класса участников информационного обмена. Задача кибернетики заключается в том, чтобы выработать язык и технические приемы, которые позволят нам на деле преодолеть трудности управления и коммуникации как таковые, а также выявить надлежащий репертуар идей и технических приемов для классификации конкретных, специфических проявлений по определенным условиям.
Команды, посредством которых мы осуществляем управление нашей средой, суть разновидность информации, передаваемой нами указанной среде. Подобно любой другой информации, эти команды подвержены дезорганизации в процессе передачи. Обычно они доходят до получателя в менее внятном виде, уж конечно не в более внятном, нежели тот, в котором они отправлялись. В сфере управления и коммуникации мы постоянно сражаемся со склонностью природы уничтожать организованное и разрушать имеющее смысл – то есть с тенденцией, как показал Гиббс, к возрастанию энтропии.
Значительная часть данной книги посвящена пределам коммуникации между индивидуумами и внутри индивидуума. Человек погружен в мир, который воспринимается нашими органами чувств. Информация, которую он получает, координируется мозгом и нервной системой, а в результате, после соответствующего процесса накопления, сопоставления и отбора, эта информация передается органам действия (как правило, это мышцы). В свою очередь, мышцы воздействуют на внешний мир, а также взаимодействуют с центральной нервной системой через органы-рецепторы, например через кинестетические окончания; информация, получаемая кинестетическими окончаниями, дополняет уже накопленный человеком запас сведений, оказывая влияние на будущие действия.
Информацией мы называем сведения, которыми мы обмениваемся с внешним миром в процессе приспосабливания к последнему и улавливания того воздействия, какое оказывает на внешний мир наше приспосабливание. Процесс получения и использования информации есть фактически процесс нашего приспосабливания к контингенциям внешней среды и процесс нашей жизнедеятельности в этой среде. Потребности и сложность современной жизни предъявляют ныне гораздо более строгие требования, нежели когда-либо раньше, к этому процессу обмена информацией; наша пресса, наши музеи, научные лаборатории, университеты, библиотеки и учебники должны удовлетворять названным потребностям – иначе они не выполнят своего назначения. Жить действенно – значит жить, располагая корректной информацией. Таким образом, коммуникация и управление являются характеристиками самой сущности человеческого существования, пускай формально они относятся к общественной жизни человека.
Изучение коммуникации в истории науки никогда не являлось простой задачей; его никогда не отдавали на волю случая – и занимались этим изучением с довольно давних пор. Еще до Ньютона физика старалась прояснить подобные вопросы, что особенно заметно в работах Пьера Ферма, Христиана Гюйгенса и Г. В. Лейбница: каждому из названных ученых был свойственен интерес к физике, в центре внимания которой находилась не механика, а оптика, то есть коммуникация зримых образов.
Ферма способствовал развитию оптики, предложив свой принцип минимизации, который постулирует, что на протяжении любого достаточно короткого отрезка пути свет движется по маршруту, подразумевающему прохождение за кратчайший промежуток времени. Гюйгенс сформулировал в первоначальном виде принцип, известный сегодня как «принцип Гюйгенса»: он утверждал, что свет распространяется от источника, образуя вокруг этого источника нечто наподобие малой сферы вторичных источников, которые, в свою очередь, распространяют свет аналогично первичным источникам. Лейбниц, его старший современник, трактовал мир как совокупность сущностей, именуемых «монадами», чья деятельность заключается в восприятии друг друга на основе предустановленной гармонии по воле Божьей, и совершенно очевидно, что он мыслил это взаимодействие преимущественно в терминах оптики. Помимо обозначенного восприятия, монады не имели никаких «окон», а потому, с точки зрения Лейбница, всякое механическое взаимодействие оказывалось, по сути, не более чем трудноуловимым следствием оптического взаимодействия.
Преобладание интереса к оптике и обмену сообщениями, бросающееся в глаза применительно к этой составляющей философии Лейбница, вообще характерно для всей его философии. Оно в значительной степени обуславливает две его наиболее оригинальные идеи, а именно Characteristica Universalis[7], то есть идею универсального научного языка, и Calculus Ratiocinator[8], то есть идею логического исчисления. Пускай данное логическое исчисление было весьма далеким от совершенства, оно являлось прямым предшественником современной математической логики.
Поглощенный мыслями о коммуникации, Лейбниц сразу во многих отношениях выступил интеллектуальным предшественником идей, излагаемых в настоящей книге, ибо он также интересовался машинными вычислениями и автоматами. Взгляды, которые я излагаю в этой книге, весьма далеки от философских взглядов Лейбница, но проблемы, которые меня заботят, безусловно могут считаться лейбницианскими по духу. Счетные машины были для Лейбница всего одним из проявлений его интереса к языку вычислений, то есть к логическому исчислению, которое, в свою очередь, виделось ему лишь развитием идеи о создании совершенного искусственного языка. Посему даже в рассуждениях о счетных машинах Лейбниц в основном сосредотачивался на вопросах лингвистики и коммуникации.
К середине прошлого века[9] работы Дж. Клерка Максвелла и его предшественника Фарадея вновь привлекли внимание физиков к оптике, то бишь к науке о свете; последний уже рассматривался как форма электричества, описание которой возможно свести к механике необычной, плотной и незримой среды, известной как эфир – в то время считалось, что эфир пронизывает собою земную атмосферу, межзвездное пространство и все прозрачные вещества. Работы Максвелла по оптике являлись математическим развитием идей, выдвинутых ранее в убедительной, но нематематической форме Фарадеем. Изучение эфира поставило ряд вопросов, ответы на которые никак нельзя было назвать вразумительными, – например, на вопрос о движении материи через эфир. Знаменитый эксперимент Майкельсон и Морли в 1890-х годах предприняли для решения этой задачи, однако он принес совершенно неожиданный результат: стало ясно, что просто-напросто не существует способа определения движения материи через эфир[10].
Первое удовлетворительное разрешение проблем, которые обозначил этот эксперимент, предложил Лоренц, указавший, что, если силы, не позволяющие материи распадаться, считать электрическими или оптическими по своей природе, следует ожидать именно отрицательного результата от эксперимента Майкельсона и Морли. Впрочем, Эйнштейн в 1905 году сформулировал это положение Лоренца таким образом, что невозможность наблюдения абсолютного движения оказывалась скорее постулатом физики, а не следствием какой-либо особой структуры материи. Для наших целей важно то, что в работе Эйнштейна свет и материя трактовались одинаково, как это было до Ньютона, что здесь нет ньютоновского подчинения всего на свете материи и механике.
Разъясняя свои взгляды, Эйнштейн многократно подчеркивал роль наблюдателя, который может находиться в состоянии покоя или в состоянии движения. По теории относительности Эйнштейна, невозможно ввести в систему наблюдателя без одновременного введения идеи сообщений, а также фактически без возвращения физики, так сказать, к квазилейбницианскому состоянию, тяготеющему, напомню, к оптике. Теория относительности Эйнштейна и статистическая механика Гиббса радикально противоречат друг другу, поскольку Эйнштейн, подобно Ньютону, рассуждает преимущественно в понятиях абсолютно строгой динамики и не пользуется идеей вероятности. А вот концепция Гиббса является вероятностной по самой своей сути. При этом обе указанные теории олицетворяют собой заметный сдвиг в воззрениях физиков, благодаря чему восприятие мира как такового, как действительно существующего, сменилось, в том или ином смысле, восприятием мира, который случается наблюдать, а былой наивный реализм физики уступил место отношению, которое оценил бы одобрительной улыбкой епископ Беркли.
Пожалуй, тут будет уместно рассмотреть некоторые связанные с энтропией положения, о которых уже говорилось в предисловии. Как мы сказали, идея энтропии выражает несколько наиболее важных отличий механики Гиббса от ньютоновской механики. На взгляд Гиббса, мы обладаем физической величиной, которая принадлежит не внешнему миру как таковому, а некоторому набору возможных внешних миров, и потому относится к области ответов на ряд специфических вопросов, каковые можно задать о внешнем мире. Физика ныне становится не обсуждением внешней Вселенной, которую можно рассматривать как общий ответ на все вопросы о ней, а совокупностью ответов на гораздо более конкретизированные вопросы. Фактически нас уже не заботит изучение всех возможных выходящих и входящих сообщений, которые возможно получить и посылать; нас теперь интересует теория куда более специфических входящих и выходящих сообщений, что подразумевает измерение уже далеко не бесконечного объема информации, содержащегося в этих сообщениях.
Сами по себе сообщения выступают формой структуры и организации. Действительно, возможно воспринимать группы сообщений как обладающие энтропией, подобно группам состояний внешнего мира. Энтропия является мерой дезорганизации, а информация, передаваемая группой сообщений, является мерой организации. В самом деле, возможно интерпретировать информацию, передаваемую в сообщении, как фактическое отрицание ее энтропии и как отрицательный логарифм ее вероятности. Иными словами, чем более вероятно сообщение, тем меньше информации оно содержит. Например, словесные клише куда менее содержательны, чем великолепные стихи.
Я уже упоминал, что Лейбниц интересовался автоматами; этот интерес разделял, кстати, его современник Блез Паскаль, который внес весомый вклад в разработку прибора, известного сегодня как настольный арифмометр[11]. В согласном ходе часов, установленных на одно и то же время, Лейбниц видел образец предустановленной гармонии своих монад. Ведь техника, воплощенная в автоматах той эпохи, была техникой часовых мастеров. Давайте рассмотрим движение крохотных фигурок, кружащихся в танце на крышке музыкальной шкатулки. Они движутся в соответствии с определенной структурой, но эта структура была задана заранее, и предыдущая активность этих фигурок практически никак не связана с их последующим движением. Вероятность того, что они отклонятся в своем движении от заданной структуры, равна нулю. Да, налицо сообщение, однако это сообщение передается от механизма музыкальной шкатулки танцующим фигуркам – и обрывается. Сами фигурки никак не коммуницируют с внешним миром, не считая обозначенной односторонней коммуникации с заранее настроенным механизмом музыкальной шкатулки. Они слепы, глухи и немы и не могут нарушить своим поведением обусловленную структуру.
Противопоставим этому поведение человека – или любого мало-мальски разумного животного, например котенка. Я зову котенка, и он поднимает голову. Я послал ему сообщение, которое он принял своими органами чувств и на которое отвечает действием. Котенок голоден и издает жалобное мяуканье. На сей раз уже он выступает источником сигнала. Котенок играет с клубком, подвешенным на нитке. Клубок сдвигается влево, и котенок ловит его левой лапой. Данное сообщение обладает весьма сложной формой, нервная система котенка принимает его и передает посредством неких нервных окончаний суставам, мускулам и сухожилиям, и через нервные сигналы, транслируемые этими органами, животное осознает свое фактическое положение в пространстве и напряжение своих тканей. Лишь благодаря таким органам возможно выполнять действия, требующие перемещения конечностей.
Я противопоставил предопределенное поведение крошечных фигурок на крышке музыкальной шкатулки контингенциальному, произвольному поведению людей и животных. Однако не следует полагать, что музыкальная шкатулка является типичным образцом деятельности всех машин.
Прежние машины – в особенности это верно для ранних попыток сконструировать автоматы – действительно функционировали по принципу замкнутого часового механизма. Но современные автоматические машины, например управляемые ракеты, неконтактные взрыватели, автоматы для открывания дверей, управляющее оборудование на химических заводах и прочие составляющие нынешнего арсенала автоматических машин с военными или промышленными функциями, обладают органами чувств, то есть наделены рецепторами, которые принимают сообщения извне. Эти рецепторы могут быть простейшими фотоэлектрическими элементами, которые изменяют электрический заряд, когда на них падает свет, и которые способны отличать свет от тьмы; или могут быть настолько сложными, насколько сложны по устройству телевизионные приемники. Они могут измерять напряжение благодаря колебаниям, возникающим в электропроводимости подведенного к ним провода, или измерять температуру посредством термопары, то есть прибора из двух различных, но соединенных друг с другом металлов, через которые проходит ток, когда один из концов контакта нагревается. Любой инструмент из набора конструктора научного оборудования представляет собой возможный орган чувств, и с его помощью возможно считывать показания дистанционно, если добавить к цепи соответствующий электрический аппарат. Следовательно, мы располагаем машиной, работа которой обусловлена ее взаимодействием с внешним миром и происходящими в последнем событиями, причем такие машины находятся в нашем распоряжении уже некоторое время.
Нам знакома также машина, воздействующая на внешний мир посредством сообщений. Автоматическое фотоэлектрическое устройство открывания дверей известно каждому, кто бывал на вокзале Пенсильвания-стейшн в Нью-Йорке. Оно используется и во многих других зданиях. Когда сообщение, состоящее в прерывании пучка света, передается на аппарат, это сообщение воздействует на дверь, и та открывается, позволяя пассажиру пройти.




