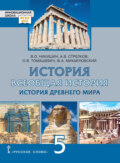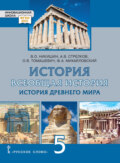О. В. Томашевич
Революция и музеи. Судьбы московских древневосточных коллекций (1910–1930 гг.)
© Коллектив авторов, 2024
© Исторический факультет МГУ, 2024
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2024
© Издательство «Альма Матер», 2024
* * *
Публикация осуществлена при поддержке
Российского научного фонда, проект № 19–18–00369–П,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Печатается по решению Ученого совета исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
от 22.11.2023 г. (протокол № 9)
Редакционный совет:
академик РАО, д.и.н., Л.С. Белоусов (сопредседатель);
акад. РАН, д.и.н., проф. С.П. Карпов (сопредседатель);
член-корреспондент РАН, д.и.н., проф. Л.И. Бородкин;
д.и.н., проф. А.Г. Голиков; д.и.н., проф. С.В. Девятов;
д.и.н., проф. О.Е. Казьмина; д.и.н. А.Р. Канторович; д.и.н., проф. Н.В. Козлова;
д.и.н., гл.н.с. Л.В. Кошман, Н.В. Литвина; д.и.н., проф. Г.Ф. Матвеев;
член-корреспондент РАН, д.и.н., проф. С.В. Мироненко, к.э.н. С.В. Орлов;
член-корреспондент РАН, д.и.н., проф. Е.И. Пивовар;
д.и.н. А.В. Подосинов; д.филол.н., проф. О.В. Раевская;
к.и.н. Ю.Н. Рогулев; д.и.н. С.Ю. Сапрыкин,
член-корреспондент РАН, д.иск., проф. В.В. Седов;
д.э.н., проф. В.В. Симонов; к.и.н., доц. О.В. Солопова;
к.и.н. А.А.Талызина
Рецензенты:
А.Е. Демидчик, д.и.н., проф., Восточный факультет СПбГУ,
Б.Е.Александров, к.и.н.,доц., исторический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
* * *
Посвящается
основателю отечественной науки о Древнем Востоке,
первому хранителю и автору начальной экспозиции
древневосточных памятников ГМИИ им. А. С. Пушкина
Борису Александровичу Тураеву (1868–1920)
Предисловие научного редактора
Сфинкс смотрит в далекое будущее, когда трагедия будет побеждена.
Рудольф Штейнер
Рубежи веков даже в наше просвещенное время вызывают рождение и умножение извечных для человеческой природы идей апокалипсиса и массовое увлечение разнообразнейшими мистическими учениями и практиками. Опять журналисты пишут о поисках – теперь уже с помощью новейших технических средств – тайных помещений внутри великой пирамиды Хеопса или под лапами Сфинкса в Гизе, где якобы сохраняются если не немыслимые по ценности сокровища, то, по крайней мере, наследие Египта, раскрывающее все загадки мироздания. Древневосточные цивилизации, среди которых египетская является особенно блистательной по количеству и качеству дошедших до нас артефактов, действительно, чрезвычайно важны как основы человеческой культуры, воспринятые и развитые греко-римским миром. Истинные сокровища – памятники этих цивилизаций, будь то золотая маска Тутанхамона или глиняная табличка с клинописными знаками и следами зубов мальчишки, буквально грызшего основы науки возможно для того, чтобы одноклассник не смог присвоить себе результаты его труда! Человечество обязано сохранять и изучать это реальное наследие своих предков, ибо еще Цицерон именовал Историю «учительницей жизни». Для этого на Древнем Востоке были придуманы музеи. Нам известно об археологических изысканиях сына знаменитого Рамсеса II в Саккаре и о создании музея во дворце дочерью вавилонского царя Набонида; рано начали собирать и хранить древности в Китае. Многое когда-то возникло на Древнем Востоке, но не обо всем мы пока знаем.
В центре Москвы, недалеко от Кремля, на Волхонке, стоит эффектное, подобное античному храму здание в неоклассическом стиле – Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, входящий в число непременных для посещения музеев Москвы. Он был открыт в мае 1912 г. по инициативе профессора Императорского Московского университета, историка искусств, филолога и археолога И. В. Цветаева (1847–1913) как университетский музей слепков[1]. Остро чувствовавший необходимость изучения памятников мирового искусства, особенно классического (для него отводили половину залов), Цветаев, сын сельского священника из скромного селения Шуйского уезда, учившийся в университете за казенный счет, думал о таких же как он студентах, для которых было невозможно путешествие за границу. Еще до открытия Музею Изящных искусств имени Императора Александра III, как он сначала именовался, несказанно повезло: благодаря усилиям двух профессоров Санкт-Петербургского университета, Б. А. Тураева и М. И. Ростовцева, было решено приобрести коллекцию древнеегипетских памятников, собранную непревзойденным их знатоком В. С. Голенищевым. Именно поэтому архитектор Р. И. Клейн создает проект музея с вестибюлем в египетском стиле, из которого посетители попадали в совершенно волшебный Египетский зал с колоннами и росписью потолка художника И. И. Нивинского, чудесное обрамление прекрасной коллекции[2].

Рис. 1. Египетский зал ГМИИ. 1910-годы.
Так любовно создававшийся и только «вставший на ножки» музей сразу захлестывает череда суровых испытаний: рано потеряв своего «отца» (сестры Цветаевы называли музей своим «колоссальным младшим братом»[3]), он оказывается под обстрелом революционных событий в прямом и переносном смысле. Огромное неотапливаемое здание, сначала даже не рассчитанное на электрическое освещение, ибо памятники предполагалось обозревать как в древности, при свете дня, льющемся через суперсовременную стеклянную крышу (привлекли инженера В. Г. Шухова), с крошечным штатом сотрудников, становится своего рода Ноевым ковчегом, собирающим и спасающим бесценные сокровища реквизируемых «именем революции» коллекций. Вихрь перемен «приносит» в музей собрания других музеев: Румянцевского, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея иконописи и живописи И. С. Остроухова, Исторического музея и т. д. В 1923 г. из учебного при университете музей превращается в художественный, один из важнейших в стране. Ученик проф. Цветаева, директор Н. И. Романов создает первую научную экспозицию картинной галереи, открытую в 1924 г. Ныне она знаменита прежде всего одним из лучших в мире собраний французских импрессионистов и постимпрессионистов, созданных усилиями и художественным чутьем московских коллекционеров И. А. Морозова и С. И. Щукина, однако любовь детей по-прежнему отдана первому приобретению музея, памятникам Древнего Египта. Не оставляют их равнодушными и огромные статуи шеду, ведущие в зал Передней Азии. Они, как и превосходные копии ассирийских рельефов, были установлены еще до открытия в 1912 г. при первом хранителе и авторе начальной экспозиции древневосточных памятников, основателе отечественной науки о Древнем Востоке, Борисе Александровиче Тураеве. Время многое изменило в этих залах, благодаря раскопкам уже советских археологов витрины пополнились подлинными памятниками, но как шеду честно выполняют предписанную им задачу – охраняют зал породившей их культуры, так колонны и роспись потолка «не позволяют» расположиться какой-либо другой экспозиции в Египетском зале.
Постреволюционные годы были крайне тяжелыми и для памятников, и для людей. Как вспоминала Маргарита Сабашникова, она, рожденная в довольно состоятельной купеческой семье, не всегда знала, где она будет ночевать и что будет есть. Тем более поразительно, что люди думали не только о хлебе насущном. Революция вызвала к жизни яркие явления культуры, чему немало примеров в этой книге. Удивительно, но в 1922 г. в России отпраздновали 100-летие египтологии, отсчитываемое с даты дешифровки древнеегипетских иероглифов французским ученым Жаном-Франсуа Шампольоном (сентябрь 1822 г.) – этому в книге посвящен специальный очерк. Интересным начинанием был Музей-Институт Классического Востока, созданный одним из главных героев нашего повествования и весьма противоречивой личностью, Владимиром Михайловичем Викентьевым (1882–1960). Одаренный художественно, он страстно увлекался учением австрийского теософа и мистика Рудольфа Штейнера и в кругу его русских почитателей познакомился с людьми, игравшими важную роль в духовной жизни России 1910–1920-х гг. Многие из них составят славу культурного феномена, обозначаемого как Серебряный век. Посему Глава 1 посвящена биографии Викентьева, а Глава 2 – его детищу, МИКВ, причем, не всегда можно отделить хронику жизни от планов и результатов деятельности. Абсолютно равнодушный к революционным идеям, Викентьев тонко уловил веяния нового времени и овладел необходимой терминологией. Он мог сделать карьеру при советской власти, но скорее рано, чем поздно, ему бы припомнили его антропософское прошлое и вряд ли судьба подарила бы ему на родине те 77 лет, которые он прожил, уехав в 1922 г. в командировку за границу и решив остаться в Каире в 1926 г., где преподавал египтологию в университете до своей кончины в 1960 г.
Столь много места этому человеку уделено в книге не только потому, что он практически был вычеркнут из истории отечественной науки, а потому, что он с феноменальным упорством пытался заполучить в свое ведение, для своего Музея-Института, все древневосточные коллекции Москвы и не только, и в этом отношении ему многое удалось. Поэтому изучение документов МИКВ раскрывает некоторые страницы истории отдельных памятников и коллекций, что важно для их дальнейшего исследования. Отдельный экскурс посвящен истории московских литературных папирусов, отданных на реставрацию в Берлин и все-таки вернувшихся в Москву, что в наше время похоже на чудо, если учесть сколько лет они «путешествовали» и какие это были годы.
В данной книге уделяется отдельная глава и Переднеазиатской коллекции Отдела Древнего Востока, причем как пополнившим ее в тот же временной период памятникам (в том числе из коллекции МИКВ), так и тем, которые не попали в ГМИИ имени А. С. Пушкина (в частности, коллекция П. Г. Устинова).
На страницах этой книги встречаются как крупные востоковеды, составившие славу отечественной науки (Б. А. Тураев, В. С. Голенищев, М. В. Никольский, В. К. Шилейко, В. И. Авдиев, В. В. Струве), так и скромные хранители, как Т. Н. Бороздина-Козьмина, отстоявшая коллекцию Голенищева от перевозки и тем самым несомненно спасшая ее памятники от вероятных повреждений и утрат; выдающиеся музейщики и коллекционеры (И. В. Цветаев, В. К. Мальмберг, Н. П. Лихачёв, Н. И. Романов), знаменитый немецкий реставратор папирусов Х. Ибшер. История людей науки переплетается с судьбами творцов Серебряного века (А. Белый, Вяч. Иванов, М. Сабашникова-Волошина, Эллис и др.), русских антропософов и других знаковых фигур бурной эпохи великих перемен и еще более великих жертв (братья А.А. и П. А. Флоренские). Начало ХХ в. ознаменовалось взлетом окутанных мистицизмом альтернативных теорий видения мира, ожиданием и переживанием грядущего конца света, тем более что Первая мировая война, а затем революция и самая страшная из войн – Гражданская – дали реальное о нем представление. Антропософия занимает особое место среди увлечений русской молодежи начала ХХ в., чему немало способствовала блестящая личность Рудольфа Штейнера, энциклопедически образованного и во многом необыкновенного человека. Практически все более-менее заметные деятели культуры – от С. Эйзенштейна до А. В. Луначарского проходят через этап увлечения этим учением, иногда просто юношеской игрой в розенкрейцеров, а многие становятся его верными адептами, отправившись в Дорнах на строительство Гётеанума.
Предлагаемое издание посвящено истории древневосточных коллекций Музея изящных искусств, как древнеегипетской (прежде всего всемирно известной коллекции В. С. Голенищева), так и переднеазиатской, в сложные десятилетия, последовавшие за Октябрьской революцией. Работа выполнена в рамках проекта РНФ «Классический Восток: культура, мировоззрение, традиция изучения в России (на материале памятников коллекции ГМИИ имени А. С. Пушкина и архивных источников)» под руководством д. и. н. И. А. Ладынина. Хотя все авторы являются выпускниками одной кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и исповедуют схожие принципы отношения к истории науки, за каждым остается право собственного видения тех или иных событий. Отчасти и поэтому отдельные главы не были подвергнуты «жесткому» редактированию с удалением незначительных повторов. Архивная работа – это такой пазл, где в мелкой детали может уместится чья-то судьба. Источниковой базой книги является значительный объем архивных материалов, собранный всеми авторами издания. Некоторые тексты, из обнаруженных ими в архивах, особенно переписка ученых, публикуются в Приложении. Текст русскоязычных документов приводится в современной орфографии за очень небольшими понятными исключениями, оставленными для сохранения «аромата эпохи». Сокращения в документах расшифровываются, если не являются общепринятыми; восстановления частей сокращенных слов в документах обозначены угловыми скобками. Биографические сведения об упоминаемых в документах лицах даны в Приложении в отдельном списке.
Работа по поиску документов в архивах осуществлялась всеми авторами, при этом материалами египтологической тематики занимались Е. А. Анохина, О. А. Васильева, Д. А. Изосимов, И. А. Ладынин, П. Д. Скоробогатова и О. В. Томашевич; а переднеазиатской – А. А. Немировский, В. Ю. Шелестин, А. А. Ясеновская. Большую техническую работу по подготовке книги взял на себя Д. А. Изосимов, за что остальные авторы ему признательны. Авторы выражают глубокую благодарность зав. Отделом Древнего Востока ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольге Александровне Васильевой за предоставленные архивные документы, а также за дружескую помощь при редактировании книги. Авторы благодарны сотрудникам архивов России и зарубежных стран, в которых они работали и с сотрудниками которых вели переписку; в особенности авторы глубоко признательны за консультации в работе с архивными документами зав. Отделом рукописей ГМИИ Н. В. Александровой, зав. сектором «Архив Антоновой И. А.» М. Б. Аксененко и старшему научному сотруднику Отдела рукописей ГМИИ О. Б. Поляковой. Благодарим также коллег В. В. Белякова и В. М. Дзевановского за предоставленные фотографии.
На обложке книги – две фотографии Египетского зала ГМИИ имени А. С. Пушкина, специально спроектированного архитектором Р. И. Клейном и расписанного И. И. Нивинским, когда стало известно, что в еще строящийся университетский музей попадет коллекция древностей В. С. Голенищева. Ныне сам зал является не только чарующим обрамлением экспозиции, но и наилучшей «охранной грамотой» коллекции. Первая фотография относится к началу истории музея, когда именно древнеегипетская коллекция стала первым значительным собранием подлинников (музей планировался профессором И. В. Цветаевым как учебный). Автором первой экспозиции был профессор Санкт-Петербургского университета, основатель отечественной школы древнего востоковедения Б. А. Тураев (1868–1920), памяти которого и посвящена эта книга. Вторая фотография сделана столетием спустя, во времена создания современной экспозиции Египетского зала (Фото О. В. Томашевич, 2012 г.): обновленный зал ждет возвращения своих сокровищ. Еще лежит на полу лестница, виден монтажный скотч, но на потолке сияют золотые звезды – так же, как было в святилищах, и на посетителей с балки благосклонно взирают лики богини Хатхор, покровительницы любви, красоты, покойных (в Египте без этого никак) и находящихся вне родины египтян, а стало быть, и созданных их руками памятников.
Со времени описанных в книге событий прошел век, и мы опять в эпохе перемен, когда так важно и ценно иметь возможность всмотреться в лица наших недавних научных предшественников, наших сегодняшних коллег и учеников, и в лики музейных древних статуй. И надеяться увидеть дающую светлую надежду улыбку Сфинкса.
Заслуженный преподаватель Московского университета
О.В. Томашевич
Глава 1. Хроника одной жизни. О В.М. Викентьеве
1.1. Московская судьба: учеба, работа в музее и увлечение антропософией
Жизнь русского египтолога Владимира Михайловича Викентьева почти поровну разделена между двумя странами – Россией и Египтом. В 1922 г., когда ему было 40 лет, он добился командировки за границу «для научной работы», а в 1926 г. остался в Каире, где прожил довольно долго – до 1960 г. На родине его не предавали проклятиям как невозвращенца – его просто забыли, точнее – «замолчали»[4]. А он был личностью весьма неординарной – даже на фоне других удивительных представителей редкого вида homo aegyptologicus. Трудно сказать, насколько органично в нем сочетались (или жестоко боролись?) очень разные качества, доставляя, наверняка не только радость, но и терзания их обладателю. Благодаря своим талантам и работоспособности он, родившийся в маленьком провинциальном городке, идеально вписывался в круг столичной интеллигенции начала ХХ в., благодаря которому в русской культуре появилось понятие «Серебряный век» (при этом, что довольно типично для России, по своему рождению и происхождению он к этому кругу не принадлежал и влился в него именно потому, что был незауряден и устремлен к знаниям). Случайно он был с юности знаком с некоторыми значимыми фигурами этого культурного феномена, но неслучайно отдельные из этих дружеских связей развились и расширились. Поцелованный музами живописи и литературы, он устраивал в московской квартире художественные выставки (причем его работы на «Выставке 7» в 1915 г. считались лучшими[5]), увлекался поэзией, организовал литературный журнал в Политехническом институте, а в Каире писал новеллы и даже роман «Хроника одной жизни»[6]. Ярко проявлявшаяся в нем склонность к мистицизму и романтике не мешала ему – уже в советской России – быть энергичным и трезвомыслящим музейным деятелем, организатором различных научных и ненаучных обществ и добиваться на этих путях административных побед в честь своих непомерных амбиций. При абсолютнейшем равнодушии к коммунистическим идеям он легко и быстро научился использовать правильные слова и прекрасно вписался в тот революционный подъем культуры, который наблюдался при падении власти незадачливого «хозяина земли русской» Николая II.

Рис. 2. М. В. Викентьев
Когда обращаешься к изучению жизни и творчества ученого, одна из самых интригующих тем, не всегда поддающаяся исследованию, это история пробуждения интереса к будущей специальности. Еще любопытнее, когда специальность редкая. Владимир Михайлович Викентьев родился 6 июля 1882 г. в семье можайского купца второй гильдии в Костроме, старинном городке на Волге[7]. Эта дата и место рождения подтверждаются копией метрического свидетельства, хранившейся при Спасской церкви, что в Подвязье. Родителями указаны: «Костромской купеческий брат Михаил Александрович Викентьев и законная жена его Мария Константиновна, оба православного вероисповедания», а «восприемниками были: Костромской купец Александр Васильевич Крюков и Костромская купеческая вдова Мария Андреевна Викентьева»; крещен младенец был 15 июля (см. Приложение. Документ 1)[8].
Учился мальчик уже в Москве, в известной Четвертой мужской гимназии[9]. Она была образована в 1849 г. и размещалась в великолепных архитектурных «декорациях»: сначала в доме Пашкова, а с 1861 г. в доме Апраксина-Трубецких у Покровских ворот («Дом-комод», редкий для Москвы памятник позднего барокко). Гимназия была классической, славилась благодаря созданным ее преподавателями учебным пособиям, что говорит о высоком уровне их квалификации, и, конечно, выпускниками, среди которых упомяну лишь Савву и Сергея Морозовых (выпуск 1881 г.) – видимо, у купеческого сословия она пользовалась популярностью. К концу XIX в. в ней обучалось около 450 юношей, из которых около половины было дворянского происхождения (их кормили лучше – пансион стоил 750 руб., а для разночинцев, к коим принадлежала семья Викентьева – 450; по средам и субботам провинившихся щедро «угощали» розгами).
Сведений о гимназических друзьях Викентьева у нас нет, но Москва подарила ему немало судьбоносных встреч, и одна из первых, оказавшаяся очень значимой – с юной Маргаритой Васильевной Сабашниковой (1882–1973)[10]. Он галантно предложил красивой девушке помочь принести обед для ее заболевшей родственницы и стал для нее и ее брата[11] близким другом, «товарищем в исканиях»[12]. В дальнейшем дружба эта «поблекла» и в ее воспоминаниях он перестал быть значимой фигурой, хотя круги их знакомств практически совпадали и они неоднократно встречались. Тем не менее ее «Зеленая Змея» – ценнейший источник для нашей «Хроники», ибо написана эта книжечка искренне, без всякого жеманства и неудержимой выспренности, в отличие от некоторых текстов самого Викентьева.
В юности, на рубеже эпох, Викентьев активно и мучительно (особенно для родителей) искал себя. Окончив в 1901 г. Московское Императорское Коммерческое училище с «решительно всеми пятерками» (отмечу, что там он учил три основных европейских языка: немецкий, французский и английский) «при отличном поведении»[13], был «удостоен звания кандидата коммерции и личного почетного гражданина и награждения золотой медалью». Затем он немного учился то в Лесном[14] (1902–1903 гг.), то в Политехническом (1904–1905 гг.) институтах Санкт-Петербурга, то в Московском сельскохозяйственном (неудача на экзаменах в 1903 г.). Скорее всего, эти учебные заведения были выбраны отцом, купцом второй гильдии, пытавшемся обеспечить сына практичным образованием. Учеба юноши на экономическом отделении Политехнического была прервана событиями 1905 г.[15], но революционными идеями он, в отличие от многих молодых людей (и своего друга студента Алексея Сабашникова), похоже, совсем не увлекался. Можно было бы подумать, что он прислушался к советам отца, писавшего сыну: «<…> не на пользу послужил доступ [в институт. – О. Т.] совершенно свободный <…> молодежи, особенно умных девиц-курсисток, от подстрекательства которых уже не впервые разгорается бор. <…> институт для ученья, а не ради политики». Но интересы молодого Викентьева лежали совсем в другой сфере – из своего Политеха он бегал на лекции известного семитолога П. К. Коковцова[16] в университет, занимался философией и «премудростями других ученых до черной магии включительно». Любящего и мягкого отца огорчало, что сын обременяет «свою голову изучением многого, что не входит в программу институтских занятий». Он пишет сыну: «<…> в твои чудные молодые годы, ты если не сейчас, то скоро будешь смотреть желтым вонючим пергаментом, и конечно, мне было больно за тебя». Отец был уверен, что важнее изучение новых, а не древних языков. Владимир Михайлович же, проявляя юношеский максимализм и завидную основательность, объяснял свои штудии следующим образом: «Я взялся за изучение Египта для того, чтобы понять современную жизнь; я буду изучать Индию, Ассирию, Китай <…> опять для того, чтобы понять современную жизнь, – я не ухожу от этой жизни, напротив, я иду к ней двумя путями – стараясь проследить ее всю с момента зарождения и схватывая ее непосредственно, чувством. Отсюда мои занятия наукой и искусством»[17]. Понимая сложность избрания юношей жизненного пути, отец советует ему посещать заседания ученых обществ, радуется его увлечению музеями, трогательно описывает свою покупку египетской фески на аукционе в Феодосии и главное – оплачивает эти метания: «Бог милостив – дотяну твое образование и без заработка твоего»[18].
Но был в семье человек, поддерживавший устремления молодого Викентьева – его сестра, Вера Михайловна. Она работала в библиотеке Сабашниковых в Москве, важном центре интеллектуальной жизни, и внушительная пачка ее писем брату показывает, сколь велика ее роль в становлении ученого-египтолога. Сестра посылала нужные книги (например, «Коптскую грамматику»), деньги, знакомила с интересными людьми из круга Сабашниковых. Первое свидетельство увлечения Викентьева Древним Египтом сохранилось именно в ее письме и относится к 1903 г. («Сочувствую твоему интересу к египетским божествам – они в самом деле поразительны»). После революции 1905 г., когда из-за студенческих протестов многие вузы прервали занятия, наш герой не вернулся в Политехнический институт, а на средства отца отправился в длительное заграничное путешествие: 7 месяцев он изучал древнеегипетские памятники Лувра, год – Британского музея. Из послания сестры в Англию от 22 октября 1906 г. мы узнаем, что Викентьев увлекается иероглифами. Она проявляет заботу о здоровье брата: «это самое верное средство лишить себя зрения даже при здоровых глазах [в архиве сохранилась справка о его плохом зрении, и на фотографиях он в очках. – О.Т.]. <…> Воздерживайся от такой работы, хотя это и лишение для тебя, хотя ты для нея и приехал»[19]. Как видно из последних слов, молодой человек серьезно «заболел Древним Египтом».
Но не только из-за увлечения культурой и религией долины Нила Викентьев в 1906–1907 гг. путешествует по Европе. М. В. Сабашникова, ставшая художницей, вышла в 1906 г. замуж за Максимилиана Волошина[20] и после свадьбы они уехали в Париж слушать лекции будущего основателя антропософии Рудольфа Штейнера (1861–1925)[21]. В конце мая 1906 г. Викентьев получил известие от Маргариты: «Штейнер сегодня начал курс своих лекций и приглашает русских, интересующихся оккультизмом; я подумала о Вас. <…> Думаю, что Штейнер Вам может дать очень много»[22]. Она оказалась абсолютно права, Викентьев увлекся его лекциями и даже посещал мистериальные драмы в разных городах, что предполагает определенный уровень посвящения[23]. Лекции Р. Штейнера были весьма необычны как по содержанию, так и по форме. На последней сказывалось влияние соратницы и второй супруги «Доктора»[24] – прирожденной актрисы и удивительной женщины Марии Яковлевны фон Сиверс. Большое внимание уделялось обстановке лекций: цвету стен, мебели, костюмам, особенно если речь шла о мистерии. Все это объясняет органичное включение Викентьева в состав учредителей Дворца искусств и его своеобразную деятельность в созданном им МИКВ (см. Главу 2).
Яркая, искренняя натура Р. Штейнера, его гуманизм, убежденность в духовности мира и многосторонние глубокие знания производили сильнейшее впечатление на очень многих выдающихся людей науки и искусства, и Викентьев не был исключением[25]. Владевшему им интересу к истокам культуры отвечали мысли Штейнера о сохранении человеческим разумом воспоминаний о предыдущих жизнях и иных эпохах. Древний Египет с его удивительной религией, красивыми и необычными для европейского глаза памятниками всегда привлекает оккультистов и любителей тайных обществ[26]; у Штейнера был даже цикл из 12 лекций «Египетские мифы и мистерии». Воображение уже зараженного «бациллой египтомании»[27] Владимира Михайловича волновали упоминания Доктором таинственной Изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, священного текста в Обществе розенкрейцеров, активным членом которого состоял Штейнер. В 1902 г. он возглавил Германское отделение Теософского общества, под «грифом» которого изданы его основные труды. Однако учение Штейнера мало зависело от теософской традиции и в 1912 г. Доктор основал Антропософское общество. За ним пошли его русские почитатели.
В этом кругу Викентьев познакомится со многими соотечественниками, которые в дальнейшем войдут в основанное в 1913 г. Русское Антропософическое (впоследствии Антропософское) общество и эти связи окажутся очень важны для его дальнейшей уже профессиональной деятельности музейщика. Например, Т. Г. Трапезников, с которым они, вероятно, встречались на лекциях Доктора за границей[28], Б. П. Григоров, Н. П. Киселев и другие.
В этом кругу Викентьев обретет свою первую супругу, Марию (впоследствии Магдалину – это имя она выбрала себе сама) Ивановну Сизову (1894–1969)[29]. Она выросла в семье художника, потомственного дворянина Ивана Ильича Сизова. Ее дядя, археолог Владимир Ильич Сизов (1840–1904) являлся членом и секретарем Московского археологического общества, позднее ученым секретарем Российского Исторического музея и много сделал для пополнения его коллекций[30].
Брат Марии, ровесник Викентьева, Михаил Иванович Сизов (1884–1956)[31], входил в ядро литературного кружка «Аргонавты» (Б. Н. Бугаев[32], Н. П. Киселев[33], А. С. Петровский[34], Л. Л. Кобылинский[35] и др.). Неслучайно последний называл кружок «тайным обществом»: до этого многие из них состояли в кружке спиритуалистов, а под влиянием А. Р. Минцловой[36] они увлеклись идеями Р. Штейнера и розенкрейцерами[37]. В 1909 г. практически эти же люди создают издательство «Мусагет», при котором в 1911 г. Эллис с Б. П. Григоровым[38] организуют кружок по изучению работ Р. Штейнера. Вместе с С. П. Григоровым, М. И. Сизовым, А. С. Петровским, М. В. Сабашниковой, Т. Г. Трапезниковым, А. Тургеневой, В. О. Нилендером и др. входит в этот кружок и В. М. Викентьев[39].
Вернемся к его избраннице: Мария Сизова была хороша собой. Кроме того, она была на 8 лет моложе супруга[40], а ее таланты и интересы вились в тех же областях литературы, искусства, театра и новомодных мистических учений. Влюбленные отправились в 1912 г. на лекции Штейнера в Гельсингфорс (совр. Хельсинки, в 1912 г. территория России)[41]. Эллис (Л. Л. Кобылинский) писал Андрею Белому, что кроме него самого этот цикл прослушали М. И. Сизова, В. М. Викентьев, К. П. Христофорова, М. И. Сизов, А. С. Петровский, Б. А. Леман[42]. Эти встречи со Штейнером были особенными: 11 апреля 1912 г. Доктор вместе с 17 русскими отмечал в Гельсингфорсе русскую Пасху и обратился к ним с речью[43]. М. В. Сабашникова вспоминала: «Никогда я еще не слышала, чтобы Штейнер говорил так задушевно, так лично. Как будто каждое слово, излучавшее бесконечную теплоту, он хотел погрузить в душу каждого»[44]. И вот там приключилась романтическая история, которая могла закончиться трагедией. Эллис, влюбленный в Сизову и свято хранивший тайну ее любви (к близкому другу ее брата Н. П. Киселеву[45]), был потрясен ее появлением «под руку (по-мещански)» с Викентьевым, который позволил «себе ограждать ее» от Эллиса. Когда Мария заявила последнему, что по-прежнему продолжает любить «того человека», а жениху ничего об этом не сказала, «разочарованию и отчаянию» Эллиса не было никаких границ, по его словам, «это был самый сильный удар в моей жизни». Видимо, горячий Эллис позволил себе наговорить такого, что Викентьев ответил ему несколькими письмами «в уличном стиле» и вызвал его на дуэль[46]. Эллис принял вызов, однако Т. Г. Трапезников смог их остановить, заметив, что «Р.К. не стреляются». Письмо М. В. Сабашниковой А. С. Петровскому от 18 мая 1912 г. с описанием этой истории, очень измучившей Викентьева, по мнению Д. Д. Лотаревой, дает свидетельство, что он входил в розенкрейцеровскую ложу[47](как и брат Марии, М. И. Сизов). Сохранилась пачка романтичных писем Марии Сизовой к супругу с трогательным изображением сидящего к нам спиной зайчика вместо подписи[48].