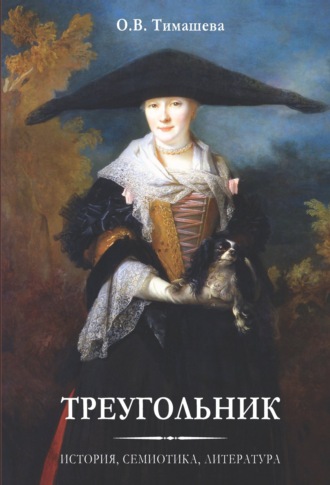
Оксана Тимашева
Треугольник. История, семиотика, литература
Публикуя в 1815 году свою книгу «О Германии», де Сталь привела в предисловии письмо, посланное ей от имени кабинета министров и генеральной полиции (3 октября 1810 года) и подписанное герцогом де Ровиго (впоследствии жившим в России дипломатом). Это письмо содержит упреки в том, что во всех своих публикациях писательница не находит достойного места для положительной оценки деятельности императора и без уважения относится к созданной им империи. Де Сталь предпочитает совсем другие исторические фигуры, восхищается другими народами, поэтому ей указывают пути, по которым она может выехать из Франции, и просят уведомить о том, который из них она выбрала. «Нечего сказать, – запишет она в своих заметках, – как изящно меня, мать троих детей, дочь отца, служившего Франции верой и правдой, выгоняют, и не находится ни единого человека, чтобы меня защитить»[21].
Весной 1802 года Наполеон запретил салон г-жи де Сталь. Ее разговоры, ее увлекательное устное творчество, ее талант, ее «гений мыслительного почина» привлекали строителя нового государства. Он слушал и читал все созданное писательницей, всегда находя у нее «беспорядок в мыслях и воображении», «безнравственность» и «безбожие». Ей буквально было предписано выехать из Парижа и не подъезжать к нему ближе чем на 100 лье. Лишиться Парижа значило лишиться аудитории, где каждое ее слово ловили на лету.
Написав в изгнании книгу «О Германии», мадам де Сталь не предполагала, что навлечет на себя кроме гнева Наполеона еще и неудовольствие всех профранцузски настроенных европейцев, поскольку ей удалось доказать, что произведения Шиллера и Гёте не менее значительны для мировой культуры, чем произведения Расина и Вольтера. Книга де Сталь, как бы идя навстречу давним исканиям Н. М. Карамзина, «молодого тургеневского кружка» и Жуковского, переводила также и взор русских с Вольтера на Гёте. Ее в России не просто читали, но изучали, особенно в тех общественных кругах, из которых впоследствии вышли декабристы. Наполеону же книга «О Германии» показалась настолько ужасной, слишком «протестной», просто «революционной», что была им запрещена и сожжена (!) по его приказу.
Когда семнадцатилетний сын Жермены де Сталь Огюст в 1807 году проник к императору, чтобы ходатайствовать о разрешении для своей матери вернуться в Париж, тот сказал ему примерно следующее: «Она умна, очень умна, может быть, даже слишком умна, но ум ее не знает ни обузданности, ни повиновения. Она воспитана в хаосе революции и государства разрушающегося. Она составила себе из этого какую-то смесь. Все это может сделаться опасным: пламенная голова ее может породить последователей. Она меня не любит. Я не должен ей позволить возвращаться в Париж…» Так же иронично, как сыну Огюсту, он отвечает и ратующим за нее министрам Талейрану и Меттерниху: «Не желаю, – говорит он, – чтобы де Сталь была в Париже. Будь де Сталь роялистка или республиканка, я бы ничего не имел против. Но это двигательная машина, которая пускает в ход салоны. Такая женщина опасна именно во Франции, и я не хочу, чтобы она была здесь»[22].
Наполеон как строгий инквизитор сжег десять тысяч экземпляров книги «О Германии». Кроме того, он окружил швейцарское имение отца г-жи де Сталь, где она жила, двойной цепью шпионов. И вот в мае 1812 года, незадолго до начала русской кампании, она решилась бежать в Швецию, в Стокгольм, где ей могли предоставить достойный приют. (Жермена Неккер получила фамилию де Сталь от своего мужа – шведского посланника во Франции.) Однако продвигаться пришлось окольными путями, через Россию, фактически по стопам Наполеона: де Сталь едет на юг и только потом на север, и везде ее встречают чрезвычайно предупредительно – она европейская знаменитость, ее книги популярны в России. В Киеве, на Украине, ее принимает граф Милорадович. Он от нее в восторге, она восхищена его светскостью и образованностью. В Белоруссии интересных встреч не было, зато в Москве, куда она попадает до Наполеона, ее принимают радушно и хлебосольно. Об этом де Сталь рассказала в опубликованной посмертно книге «Десять лет в изгнании» (1834).
Что знала писательница о России, что знали о России во Франции? Она сама отвечает на этот вопрос: «Несколько неприглядных исторических анекдотов, несколько русских, наделавших долгов на парижской мостовой, одно-другое красное словцо Дидро внушили французам убеждение, будто Россия состоит лишь из развращенного двора, из офицеров, камергеров и из рабского народа. Это большая ошибка»[23]. Заметки европейской путешественницы превращаются в открытие незнакомой страны, в честное, нелицемерное суждение о ней.
Г-жа де Сталь пережила с Россией вторжение французской армии и быстрое продвижение к Москве. Военные неудачи России страшили ее, она боялась окончательного торжества Наполеона и очень сомневалась в русской армии, в русской судебной системе, в принципе в русской цивилизации – молодой, как называла ее г-жа де Сталь. Народившийся класс новых людей не обрел еще чувства чести – так думает она о расслоении французской нации после Французской революции и полагает, что такое же положение дел возможно и в России. Приглядевшись к русским, де Сталь напишет: «Я не заметила сначала народного духа, внешняя переменчивость впечатлений у русских мешала мне наблюдать русский народ. Отчаяние оледенило все умы, отчаяние – предтеча страшного пробуждения. В простом народе видишь непостижимую лень до той минуты, когда пробуждается его энергия: тогда она не знает преград, ничего не страшится: она, кажется, побеждает стихии точно так же, как и людей»[24]. Отмечая суровую мужественность русского народа, которая не есть непреклонность, не есть варварство, она сравнивает (чужими словами) Россию с пьесой Шекспира, потому что «в ней величественно все, что правдиво, а то, что не величественно, – ошибка»[25].
С русскими людьми де Сталь впервые познакомилась у себя в салоне еще в Париже: ее навещали русские дипломаты и путешественники. Когда она, уже в изгнании, попадает в Вену, то там среди ее друзей – князь де Линь, семидесятидвухлетний старик, дважды фельдмаршал (Австрии и России), любимый собеседник Екатерины II, а также юный граф Сергей Семенович Уваров, тогда еще камер-юнкер. Имя г-жи де Сталь было хорошо известно в дворянских гостиных Москвы и Петербурга 1812 года. Как писательницу ее знают в России уже давно. В 1795 году Н. М. Карамзин перевел ее новеллу «Мелина» (она выдержала три издания). Далее последовали переводы новеллы «Мирза» (1801), «Двух повестей» (1804) и романа «Коринна» (1809). Ее читатели были повсюду: в уездных, губернских и столичных городах. Перед ней распахивались все двери, включая двери государя, хотя никто не забывал, что деньги ее отца расчистили дорогу Французской революции. Петербург и «грибоедовская» Москва (фамусовское общество) не слишком ею восторгались. Граф Ростопчин, министр иностранных дел при Павле I, называл ее по-французски «une pie-conspiratrice» – «сорока-заговорщица». Из некоторых частных писем стало также известно о том, что консервативные московские дамы рассуждали синонимично Наполеону, оценивая ее как «безбожницу» и «безнравственную женщину», «из-за которой и погиб Свет».
В Петербурге де Сталь сумела сблизиться с графом Петром Корниловичем Сухтеленом, голландцем по происхождению, служившим государю в качестве главного военного строителя портов, каналов и крепостей. Именно Сухтелен рассказал де Сталь об истинном положении дел в стране и о перспективах войны с Наполеоном, что ее особенно интересовало. Следует добавить, что она была восхищена сыном Сухтелена, флигель-адъютантом Александра I, с ее точки зрения, также «героя нового времени».
Жермена де Сталь сумела встретиться с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, жена которого стала ее подругой, адресатом многих ее писем.
Он принял командование за пятнадцать дней до вступления французов в Москву и не мог прибыть к армии раньше, как за шесть дней до великой битвы, которую он дал у ворот этого города в Бородине. Я видела старца перед его отъездом. То был старец с самым привлекательным обращением и живостью в лице, несмотря на то, что он потерял глаз от одного из бесчисленных ранений, полученных за полвека его военной службы. Глядя на него, я боялась, что у него не хватит сил бороться с суровыми и сильными людьми, которые наводнили всю Россию со всех концов Европы. Я была растрогана, покидая фельдмаршала Кутузова. Я не могла дать себе отчета, кого я обнимала, победителя или мученика, но, во всяком случае, я видела в нем личность, понимающую все величие возложенного на нее дела… Перед отъездом генерал Кутузов отправился помолиться в Казанский собор, и весь народ, следуя за ним, кричал ему, чтобы он спас Россию[26].
По мнению де Сталь, в России гениальные люди встречались лишь среди военных – она вспоминает также Петра I и А. Суворова[27].
При всей спорности де Сталь про нее нельзя сказать (перефразируя Пушкина), что «она ленива и нелюбопытна». Она хочет знать всё – от английской философии до итальянской поэзии. В книге «О Германии» она сообщает, что ей нравится английский процесс воспитания, при котором люди крепко осознают чувство долга и чести. В Италии ее привлекает «энтузиазм» (собственный термин писательницы), иначе говоря, заводной характер итальянцев, а в России ее волнует, образно говоря, то, как приводится в действие «народная дубина» (тоже ее выражение).
Франсуа-Рене де Шатобриана считают, как и де Сталь, основоположником французского романтизма. Он был известен в России уже с первых его публикаций во Франции; его книги выписывали, продавали и переводили (декабрист Николай Тургенев и историк Михаил Погодин). Живые отклики на тексты французского писателя можно найти у В. Жуковского, Ф. Батюшкова, А. Пушкина и Ф. Тютчева[28].
Природный дворянин родом из Бретани, где у семьи Шатобриана было имение Комбург, никогда не пользовался привилегиями своего сословия. В сознательную жизнь он вступил после Французской революции 1789–1894 годов и потому зарабатывал на хлеб самостоятельно, литературным и дипломатическим трудом. Когда уже в преклонном возрасте, в Англии, где в молодости он провел несколько лет в эмиграции, ему предложили звание пэра и соответствующую его положению пенсию, он от нее отказался. У автора «Гения христианства» было недвусмысленное понятие о чести, хотя жизнь сложилась таким образом, что ему пришлось служить как роялистам, так и Бонапарту. В его позиции главным было понятие служения Родине, а также идея сословной чести и достоинства. Всю жизнь Шатобриана мучили мысли о будущем Франции, и он видел свою страну не иначе как христианской. Только на пути к Богу, полагал он, его страну ждет истинное возрождение. Увлеченный размышлениями о духовном, писатель честно и искренне рассказывает о своих встречах с Наполеоном, часто по-разному, как и Стендаль, оценивая его как правителя, как главнокомандующего и как человека.
«Замогильные записки» – это опубликованное посмертно произведение Шатобриана, где в основном и записано всё, что он думал о Наполеоне. Он смотрит на него то глазами республиканца, то глазами легитимиста, настойчиво отыскивая общественно значимые черты в облике и таланте этого человека, «вознесенного толпой». Автор уверяет своего будущего читателя (на прижизненную встречу с ним он не надеется), что прочел абсолютно всё написанное Наполеоном: от первых детских сочинений до романов, от брошюр и политических диалогов республиканского толка до писем Жозефине и пяти томов его речей, приказов и бюллетеней, испорченных «непрошеными редакторами» вроде Талейрана и других близких императору чиновников.
Однако лишь в дрянной рукописи, оставленной на Эльбе, я нашел мысли, достойные великого островитянина. Вот они:
«Обыденные радости так же противны моему сердцу, как и заурядное страдание».
«Не я даровал себе жизнь, не мне и отнимать ее у себя, пока она сама от меня не откажется».
«Злой гений являлся мне и предсказал мою гибель: предсказание сбылось под Лейпцигом».
«Я заклял ужасный дух новизны, бродивший по свету»[29].
В этом натура Бонапарта выразилась сполна, полагает Шатобриан. Он отмечает также, что любой набросок Бонапарта написан энергично, возвышенным языком – порождением революционного духа. С эмфазой, независимо от политических убеждений, писали практически все авторы той эпохи: Андре и Мари-Жозеф Шенье, де Местр и де Бональд, де Траси, Кабанис и Вольней. Антуан де Ривароль, журналист, писатель и ученый (1753–1801), написавший неоценимый для французской лингвистической традиции трактат об универсальности французского языка, тоже прибег к ораторскому стилю, изъясняясь напыщенно и с пафосом. Рассуждая о грамматике и словообразовании, об особом синтаксисе и инверсиях, он отметил также распространение французского языка, получившего, по его образному выражению, «имперскую власть». Это не противоречило идеологии Наполеона, который никого, кроме себя, в роли идеолога не видел. Многих литераторов, рассуждающих как наследники Просвещения, он не терпел, но на Шатобриана-романтика, излучавшего дух новизны, обратил внимание одним из первых[30].
В 1802 году, после принятия Законодательным корпусом памятного Конкордата министр внутренних дел устроил празднество, на которое Шатобриан был приглашен как человек, «воссоединивший силы христиан и поведший их в атаку», поскольку только что вышло его знаменитое эссе «Гений христианства» и это название было у всех на устах. «Каким-то образом, – пишет Шатобриан, – Бонапарт заметил и узнал меня. „Господин де Шатобриан!“ Толпа отхлынула, чтобы затем сомкнуться вокруг нас кольцом. Я остался в одиночестве. Бонапарт заговорил со мной, не чинясь: без любезностей, без праздных вопросов, без предисловий, он сразу повел речь о Египте и арабах, как если бы я входил в число его приближенных и он всего лишь продолжал начатую беседу. „Меня всегда поражало, – сказал он, – что шейхи падают на колени среди пустыни лицом к Востоку и утыкаются лбом в песок. Что за неведомая святыня на Востоке, которой они поклоняются?“»[31]
Возможное столкновение с мусульманством и мусульманским миром заставило Наполеона взглянуть иначе и на христианство, которое пыталась выкорчевать Французская революция. Его собеседники, наследники просветителей, предлагали ему взглянуть на эту религию как на астрономическую систему, в которой можно увидеть аллегорию движения сфер, геометрию светил. Но он видел в христианстве, несмотря на опорочившую католическую церковь инквизицию, много величия и счел необходимым именно это подчеркнуть. После этой встречи на празднике в честь соглашения с Римским двором, положившим начало официальному восстановлению католической религии во Франции, Наполеон решил послать Шатобриана в Рим, ибо сразу понял, чем этот начинающий, входящий в моду писатель может быть ему полезен. Это было в 1803 году. Пост министра иностранных дел занимал тогда Талейран, именно он оформил литератору назначение. «У Талейрана были прекрасные манеры, они нисколько не походили на манеры его подлого окружения; его мошенничество было преисполнено непостижимой важности, в этом осином гнезде развращенность нравов слыла гением, легкомыслие мудростью», – отметил мемуарист[32].
Похвалив однажды «Гений христианства», Наполеон затем многократно критически высказывался по поводу других сочинений писателя. Ему не понравились его эссе «Бонапарт и Бурбоны», некоторые статьи и речь при вступлении в Институт. Не раз Наполеон сам выступал в качестве цензора, переставляя акценты в пафосных высказываниях Шатобриана. Тот часто бывал не согласен с тираном, не боялся его и страха или трусливого поведения себе не позволял. Строго и поэтично Шатобриан описывает «Сто дней» Наполеона. По его словам, на острове Св. Елены император осудил себя дважды: за войну в Испании и за войну в России. Задолго до многих – и словно под копирку написанных – биографий Наполеона Шатобриан отметил, что уже при жизни императора стали рассматривать не как реальное лицо, а как плод поэтических выдумок, как персонажа легенды, солдатских преданий и народных сказок. Таковы, с его точки зрения, Карл Великий и Александр Великий, во всяком случае, так их изображали средневековые эпопеи. А между тем триумф Франции стоил ей трех миллионов солдатских жизней. Сограждане Шатобриана жили в страданиях и неволе. Талантливый и могущественный властитель, Наполеон лишил своих соотечественников независимости и домашнего очага, тяги к свободе и самой свободы. И бедняки, и богачи украшали жилища его портретами и бюстами. Повсюду в Европе – в Италии, в Германии – можно было натолкнуться на его тень. «Может быть, время поторопилось предать картинку тиснению?» – вопрошает мемуарист своих будущих читателей. Лишь столетия могут по-настоящему закончить портрет великого человека.
Сопоставление небольшого количества довольно пестрых фактов, которые мы попытались идентифицировать, весьма объемно и по-человечески высвечивает эту популярную сегодня историческую фигуру – Наполеона Бонапарта. Ценность приведенных высказываний состоит в том, что, совпадая в общих чертах и демонстрируя нам тирана и деспота, они одновременно показывают Бонапарта как своеобразную личность, не случайно достигшую многих успехов в военном и общественно-политическом смысле. Наполеон прошел трудный путь защитника революции и полководца, и французские романтики, надо отдать им должное, были достаточно объективны в его оценке. Кроме того, они внушили современникам мысль, что Россия – уникальная страна и обращаться с ней надо очень осторожно.
Русская кампания не была для Наполеона, по мнению многих французов, ни особенно серьезной, ни выдающейся, ни исключительной. Свою ошибку вступления в Россию он понял сразу, хотя до самой смерти не так уж глубоко ее осознал. Ему, безусловно, нравились его прошлые отношения с императором Александром I, которого он, по собственному признанию, «любил почти как женщину».
Дискурсивный анализ одного послания Наполеона
Французская речь в последнем томе романа Л. Н. Толстого «Война и мир»
Современная русская литература в лице писателей, которых называют авангардными (Вен. Ерофеев, Вик. Ерофеев, Евг. Попов, Вл. Сорокин), часто отсылает читателей непосредственно к языку, которым она написана. Это значит, что писатели задерживают внимание своих гипотетических собеседников на отдельных словах и выражениях, речениях и присловьях, новой лексике и архаизмах. Можно сказать, они организуют нам очную ставку с тем, что асимметрично, угловато и выпадает из русла привычного разговора. Однако интерес к живой пульсирующей речи вовсе не такая уж новость. Русской литературе он всегда был свойствен и привычен. Скорее прежде читатели просто не обращали внимания на непосредственный интерес писателя к языку.
Вглядываясь в IV том «Войны и мира» Льва Толстого, где речь идет о 1812 годе и событиях Бородинского сражения, поражаешься тому, до какой степени автору интересна игра с языком, как любопытны ему различные языковые стили, смены регистров в диалогах, столкновения русского с французским. Это подчеркивали многие критики, в особенности Б. Эйхенбаум, считавший, что Толстой смешивает повествовательные и толковательные жанры, потому что в художественном отношении он не удовлетворен прежними формами и постоянно ищет новых[33].
C событиями, развернувшимися в 1812 году в Бородине, большинство соотечественников знакомо именно по роману Л. Н. Толстого «Война и мир», четвертый том которого исключительно им и посвящен (канун и дни «до и после» Бородинского сражения). Об этом написано немало книг и исследований – как о творческой биографии писателя, так и том, что им создано. Широко известно, что писатель сам перевел многочисленные «французские» вкрапления в романе на русский язык и сделал это в тот момент, когда решил изменить первоначальную структуру книги, превратив шесть томов в четыре.
Предлагая разговор о дискурсивном анализе одного послания Наполеона из IV тома романа Толстого, остановимся сначала на определении дискурса. Слово это имеет различные толкования, но в последнее время его используют для обозначения того, с чего начался разговор, – с живой, пульсирующей речи, с речи, погруженной в жизнь. В «Лингвистическом словаре» дискурс определяется как связный текст в совокупности с экстралингвистическими, психологическими и другими факторами; «текст, взятый в событийном аспекте».
Открывая IV том своей эпопеи о «Войне и мире», русский классик сразу погружает читателя в определенную языковую среду, где, как он выражается, происходит «трубение придворных трутней». Столь выразительная метафора при всем своем лаконизме имеет характерный признак стиля Л. Толстого[34]: повторение (дважды) понравившегося ему слога, слова или выражения. В данном случае мы имеем дело с повторяющимся слогом – тру-тру, а значит, своего рода звукописью, расшифровывающей смысл слова «трубение», неологизма Толстого. В словаре В. Даля есть «трубить», одно из значений которого – «трезвонить, разглашать шум: кто во что горазд, тот в то и трубит»; но есть также слово «трубенка» – пчеловодство, рой из улья, последний рой.
В пресловутом салоне Анны Павловны Шерер читается вслух письмо «преосвященного» (титул епископа), написанное при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. «Искусство чтения, – пишет Л. Толстой, – считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот»[35]. Письмо зачитывал князь Василий, и оно почиталось образцом патриотического и духовного красноречия. В связи с этим нельзя не обратить внимания на то, что эта реплика из глубокоуважаемого классика по характеру своему принадлежит области красноречия, ибо разговор о чтении заставляет нас ориентироваться в семиосфере. Иными словами, Лев Толстой, не зная о том, что текст – это продукт языковой системы, обучает нас умению разводить значение и смысл, то есть обучает нас структуре и семантике текста. Он и писатель, он же и критик нормы речи в определенной среде. Обратите внимание на последние слова преосвященного: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща Российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни…»[36] В ответ на эту псевдопатетику библейского содержания по-французски произносятся хвалы чтецу и сочинителю: «Quelle force! Quel style!» (Какая сила! Какой слог!)
Общее мнение выражено по-французски. Шла война, а горожане (и москвичи, и петербуржцы) продолжали посещать французский театр, слушали французские водевили, увлекались французскими актрисами. Лев Толстой пишет о тех временах, которые называют иногда пушкинскими, имея в виду не только начало расцвета творчества великого русского поэта, но также и то, что употребление французского языка для той эпохи было весьма органично. Как говорят лингвисты, оно не было маркировано, то есть не бросалось в глаза, было вполне естественным. Сам же Л. Н. Толстой живет и работает в другое время, поэтому и употребление французского языка героями (и русскими, и французами) в романе позиционировано сообразно этому другому времени. Однако писатель никогда не отказывается признать тот факт, что французская культура и в его время оказывала влияние на традиции его семьи, той среды, к которой она принадлежала. В Ясной Поляне французская музыка, книги и беседы на французском языке, сколько он себя помнит, всегда были частью повседневной жизни. С точки зрения Толстого, знакомство русского дворянина с лучшими образцами французской культуры было постепенным и есте ственным процессом и никоим образом не уничижало русскую сущность, но обогащало аристократические качества ума и духа.
Тема французской культуры и французского языка в «Войне и мире», по мнению Б. Эйхенбаума, имела два аспекта. С одной стороны, автор эпопеи хотел высмеивать и критиковать славянофилов, «чистых русских», людей с сильной волей и стойким сердцем, но невежественных во всем, что касалось Западной Европы и всякого образования. Одновременно ему нужно было утвердить образ образованного русского помещика в противопоставлении тенденциям, которые господствовали в изображении русских дворян в литературе того времени. Ведь либералы-западники рисовали помещиков преимущественно как жестоких невежественных деспотов[37].
Сам французский язык, как отмечает Б. Успенский, «нужен автору „Войны и мира“ не столько для соотнесения с реальной действительностью (описываемой в произведении), сколько как технический прием изображения»[38]. Писателю необходимо передать индивидуальность стиля говорящего.
Передача французской речи объясняется также и тем, что Б. Успенский называет позицией объективного наблюдателя. Следя за своими персонажами, автор протокольно, со всей возможной точностью фиксирует услышанное, обращая внимание на фонетические особенности речи действующих лиц и семантику произведения.
Рассмотрение случаев употребления французского языка в прямой речи действующих лиц «Войны и мира» показывает, что прямая речь в романе вовсе не всегда обусловлена тем, на каком языке данное лицо действительно (в представлении автора) говорит в соответствующий момент, – она может иметь и чисто функциональные задачи, непосредственно связанные с проблемой авторской точки зрения.
Что имеется в виду под проблемой авторской точки зрения? Авторская точка зрения – это один из возможных подходов к вычленению структуры произведения. Проблема точки зрения имеет отношение к тем видам искусства, произведения которых по определению двуплановы, то есть имеют выражение и содержание (изображение и изображаемое). «Точка зрения» может иметь идеологический и фразеологический уровни. Идеологический уровень плохо доступен формализованному исследованию. Фразеологический – план речевой характеристики – единственный уровень, позволяющий проследить смену авторской позиции.
Например, мы читаем о том, что Кутузов посылает государю с официальным известием полковника Мишо. Лев Толстой характеризует его следующим образом: «Мишо, не знавший по-русски, но quoique étranger, Russe de coeur et d’âme, как он сам про себя говорил» (хотя иностранец, но русский в душе).
В данном случае через фразеологическую характеристику на французском языке выражена определенная авторская позиция. Было много людей, разговаривающих по-французски, и даже французов, сочувствующих и преданных России. В этой точке зрения и в дальнейших фразеологических характеристиках этого персонажа подчеркнуто идейное мировосприятие именно Л. Толстого. С этнопсихологической точки зрения он отнюдь не торопится создать образ врага. Это его credo и идеология.
Та же фразеологическая характеристика повторяется чуть ниже: «Мишо – quoique étranger, mais Russe de coeur et d’âme – entousiasmé par tout ce qu’il venait d’entendre» (Мишо, хотя иностранец, но русский в душе, почувствовал себя воодушевленным тем, что только что услышал).
Речь идет не об обращении: maman, papa или ma tante, а именно об отдельных содержательно значимых словах: «Укрепление Кремля, для которого надо было срыть la Mosquée (так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного), оказалось совершенно бесполезным» (mosquée – мечеть); «Убегая из Москвы, люди этого войска захватили с собой все, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный trésor». Толстой перевел слово trésor как «сокровище», но мы знаем, что он имел в виду тот знаменитый обоз, который частично утонул при переправе через Березину. Золото и серебро, бывшие в этом обозе, ищут до сих пор.
«– Вам кого, сударь, надо? – сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика француза, которого взяли нынче.
– А, Весеннего? – сказал казак.
Имя его Vincent уже переделали: казаки в Весеннего, а мужики в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике». Автор использует разные позиции при обозначении (наименовании) одного и того же лица. В данном случае эти позиции сходятся.
Следует также отметить эволюцию наименований Наполеона, отражающую перемены общества в отношении к самому Наполеону. Сначала его называют Buonaparte (подчеркивая его нефранцузское происхождение). Князь Андрей зовет его Bonaparte (без и), а Пьер в противоположность называет его Наполеоном. Потом его называют chef du gouvernement français – главой французского правительства, иногда le Grand Homme – великим человеком, иногда l’Impereur français – французским императором. В IV томе «Войны и мира», где речь идет о командующем французской армией, Наполеона называют Sir, Votre Majesté. В ставке Кутузова его зовут Наполеон, в обществе и великосветских салонах звучит слово узурпатор или, как было сказано выше выспренним придворным языком, дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции[39].
Толстой щедро, не задумываясь об излишках, вплетает в текст своего романа многочисленные деловые бумаги и записки, постановления и извещения. Именно они вызывают особый интерес, потому что помогают тому, что мы выше обозначали как дискурсивный анализ, – рассмотрению текста в событийном аспекте. Если письмо преосвященного, прочитанное в первой главе IV тома, акцентирует и нюансирует нам его лжепатетику (в речевом варианте, в устах посетителей салона А. П. Шерер), то записка Кутузова во второй части тома лаконично обозначает победу: «…русские не отступили ни на шаг… французы потеряли гораздо больше нашего». Таковы первые слова Кутузова, на основе которых было составлено мнение о победе русского войска.
В последующих главах мы встречаемся с многочисленными официальными письмами, указами, донесениями, провозглашениями, воззваниями – со всем тем, что называется деловой речью. В теории речевых жанров М. Бахтина деловая речь, жанр делового письма характеризуются как особые, имеющие определенное тематическое содержание и некий языковый стиль. В них вынужденно происходит отбор словарных, фразеологических и грамматических средств, равно как соблюдается особая композиция.
Обратимся к короткому письму Наполеона к Кутузову от 30 октября 1812 года после долгого периода молчания.
Monsieur le prince Koutouzov. j‘envoie près de vous un de mes aides de camps généraux pour vous entretenir de plusieurs objets intéressants. Je désire que votre altesse ajoute foi à ce qu’ Il lui dira surtout lorsqu ’Il exprimera les sentiments d’estime et de particulière considération que j ’ ai depuislongtemps pour sa personne… Cette lettre n’étant à autre fin je prie dieu, Monsieur le prince Koutouzov, qu’Il vous ait en sa sainté et digne garde.
Moscoù, le 30 Octobre, 1812. Signe:
Napoléon[40]
(Князь Кутузов… посылаю к Вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с Вами о многих важных предметах. Прошу Вашу Светлость верить всему, что он Вам скажет, особенно когда станет выражать Вам чувствования уважения и особенного почтения, питаемые мною к Bам с давнего времени. За сим молю Бога о сохранении Вас под Своим священным кровом.
Москва, 30 октября 1812.
Наполеон)
Какую оценку этому письму дает сам Лев Толстой? Командующий войском, метафорически обозначенный как подбитый под Бородином зверь, пишет русскому военачальнику первые пришедшие в голову слова, не имеющие никакого смысла.



