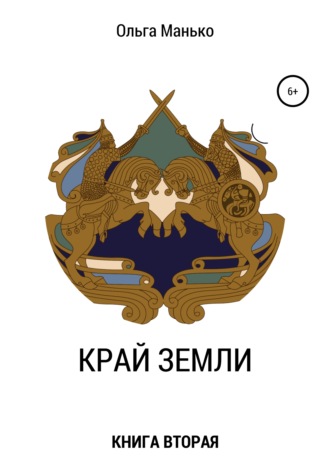
Ольга Владимировна Манько
Край Земли. Книга вторая
Глава III
Подъехали к бубякинскому дому. Забор высокий из тёсаного камня стоит вокруг дома, ворота дубовые на крепкий замок заперты. Из-за забора лишь черепичная крыша виднеется, да каланча пожарная небо подпирает. Робко стражники постучали в ворота. Никто им не открывает. Ещё раз постучали. Вновь тишина.
– Может, вы и не стражники боярина Бубякина, а самые что ни на есть лиходеи? – ухмыльнулся Бранибор. – От того вам и ворота не отворяют?
– Что ты! Что ты! – замахали они руками. – Стражники мы. Токмо у нас беда с радостью пришла.
– Как так? – спрашивает Макар.
– Пропал наш боярин по зиме. Почитай полгода их не было. Уж и не чаяли живыми увидеть, – принялся рассказывать старший. – Боярыня, как полагается, поплакала, затем утешилась, а опосля принялась хозяйством распоряжаться. Ладно выходило у неё. Но тут является обратно боярин. Да не один, а с Акишкой. Кто таков и не понять, – вздохнул стражник. – Боярыня как барина увидела, обрадовалась, весёлая стала. Всем дворовым подарки самолично поднесла. Три дня пировали, а на четвёртый день Акишка стал в доме верховодить. Боярин с боярыней свою опочивальню уступили ему. По утрам Акишке девки пятки чешут. Когда он спит, то не смей шуметь. За то могут на конюшне выпороть.
– Да кто ж таков этот Акишка? – удивляется Марьюшка. – Впервые слышу о таком!
– Не знаем, не ведаем. Но власть имеет он над барином нашим. Вот потому мы и боимся Акишку разбудить. Боярин же Бубякин завсегда крутым нравом славились. Сами же теперича на цыпочках ходят, когда Акишка храпака дает. И не велят его звать Акишкой, а токмо Ким Терентьевич.
– И что, силён и быстр на руку Ким Терентьевич? – полюбопытствовал Макар.
– Да какое там! – вздохнул стражник. – Сморчок! Глянуть не на что! Но в страхе Бубякина держит.
– А вы-то чего, стражники? – удивился Бранибор. – Зачем Акишку терпите?
– Ну, ежели его сам Бубякин боится, то и нам лучше не высовываться, – отвечают стражники.– Мы-то люди маленькие.
Макар с тоской посмотрел на запертые ворота и спросил:
– Стало быть, пред воротами нам стоять пока Акишка не проснется? Стражники переглянулись и шёпотом ответили:
– Когда Ким Терентьевич пробудится, то шуметь опять никак нельзя.
– Отчего же?
– Не любит он шум особливо после сладкого сна. Неблагородно, говорит, выходит для его ушей.
Марьюшка рассердилась:
– Что же сразу не предупредили, что в дом бубякинский никак не попасть?
Стражник махнул рукой в сторону каланчи:
– Не серчай, княжна, теперича будем ждать, когда сами боярин Бубякин на пожарную каланчу залезут, а оттуда нас углядят. Пока же, княжна, милости просим в шатер. Боярин привез его из дальних странствий. Там и отдохнете.
Взяв коня под уздцы, повел к шатру.
– Да как же он нас увидит? – удивился Макар.
– На то у нас хитрость имеется. Мы над шатром флаг вывешиваем.
Шатер и в самом деле был хорош. Зеленого шёлка, расписной. Внутри восточные ковры лежали, диковинные топчаны стояли, чтобы путники могли отдохнуть на них.
Только вошли путники в шатер, откуда ни возьмись, слуги появились, блины несут, а к блинам и сметану, и маслице, и мёд. Самовар тащат, а самовар уж пыхтит разгорячённый. Бранибор оживился:
– Блин не клин, брюха не расколет.
– Кому чин, тому и блин, – с поклоном отвечал стражник. – Кушайте на здоровье, отдыхайте с дороги долгой. Как только барин ворота откроет, я вас извещу.
– Погодь, – остановил его Бранибор. – Как зовут тебя, братишка?
– Фрол я.
– Садись с нами, поди, тоже намаялся на боярской службе.
– Не можно нам с княжной за одним столом сидеть. Но спасибо на добром слове, – поклонился и вышел из шатра.
Макар и Бранибор навалились на блины, разбрызгивая сметану и масло по столу. Марьюшка ела задумчиво.
– Что пригорюнилась, деточка? – спросил Макар
– О матушке думаю, столько времени её ищем, а куда идти, где искать и не знаем.
– Не горюй, найдем обязательно, – ответил Макар.
– Ты, Марья, откушай блинов, сил надо тебе набираться. Дело-то нелегкое странствовать, – сказал Бранибор.
– Передохнем чуток и пойдем дальше, – согласился Макар. – Не будем боярина Бубякина ждать. Шут его знает, каким таким Акишкой он обзавелся.
Марьюшка вздохнула и принялась за блины. Не успели они закончить трапезу, как раздался жуткий грохот и крик:
– Эй, вы там что? Все заснули?
О неожиданности Марьюшка вздрогнула. Затем раздался заливистый собачий лай, опять крики:
– Отойди, нонче я не в духе! Могу зашибить!
Послышались оглушительные удары и уже сердитое гавканье. Бранибор, Макар и Марьюшка выбежали из шатра. Около бубякинского забора копошилась куча – мала. На Соловья Разбойника навалились стражники, он же отпихивая их, прорывался к воротам, вопя:
– Пустите, оглоеды, жизни лишу! Жалеть будете, да поздно!
Стражники тоже не молчали:
– Не шуми, башибузук, Ким Терентьевич опочивает!
Вокруг носился Стёпка, надрывая глотку. Ерёмка согнувшись под тяжестью короба, мелкими шажками, чтобы не заметили стражники, пробирался к бубякинским воротам. Добравшись, принялся колотить, что было силы:
– Эй, хозяева, отоприте-отворите!
– Честных путников пустите! – вторил ему Звон-Парамон.
– Что же, как сычи сидите? – верещал Ерёмка.
– Вы разбойничка не злите!– вслед гонцу трезвонил Парамон.
Стражники оставили Соловья-Разбойника и накинулись на Ерёмку. Стёпка вцепился в штаны одно из них, злобно рыча:
– Р- руки убер-р-ри! Отгр-р-рызу!
Разбойник, вскочив на ноги, принялся раскидывать стражников в разные стороны. Одного из них откинул прямиком на привязанную лошадь. Та испугано заржала, следом за ней встревожено заржали остальные.
– Давай, Соловей, давай! – азартно кричал Бранибор. – Задай феферу! Поучи караульщиков кулачному бою!
Марьюшка только осуждающе качала головой, но не вмешивалась. Макар посмеивался. Фрол достал боевой рожок и загудел. Ворота открылись, гремя щитами, высыпались стражники с копьями и мечами. Соловей ошарашено взглянул на суровых стражников, а потом взъярился:
– Ах, вот как вы, бряцалки боярские! Толпой меня решили победить? Не бывать этому!
Схватил первых двух, что попались под руку, стукнул их лбами друг об друга и отбросил, словно поленья. Поймал следующих, вновь столкнул лбами и третьих тоже. Караульщики оторопело шарахнулись от разгоряченного Разбойника и вцепились в Ерёмку. Руки начали ему вязать, рот кляпом затыкать. Бранибор кинулся на помощь Ерёме. Звон-Парамон, в силу малого роста, крутился под ногами стражников. Те, спотыкаясь об него, валились на землю. Парамон ловко вырвал у одного меч и, продолжая вертеться в шумной толчее, колол караульщиков в ноги. Они подпрыгивали, ругались, но поймать Парамона не могли, очень уж он вёрткий был.
Ворота вновь приоткрылись, наружу выглянул встревоженный и задыхающийся от бега боярин Бубякин. Ртом хватая воздух, он попытался крикнуть, да только дал петуха. Бросился к стражникам, но те, не разобрав, кто перед ними, схватили за ноги – за руки и, раскачав, откинули в сторону. Бубякин упал на шатер. Шатер завалился. Барин колотился, пытаясь выбраться, но только сильнее запутывался. Стражник подловил Звона-Парамона и, приподняв, с удивлением посмотрел на него:
– Во, какая тля в бантах!
– Стоеросина в штанах! – обиделся Парамон и попытался ударить стражника.
– Ты не буянь!– рассердился тот.
– А ты отстань! – вышел из терпения Парамон.
Стражник осерчал:
– Путаешься под ногами!
– Не якшаюсь с дураками! – осердясь крикнул Звон-Парамон.
Стражник, не стерпев такого охальства, отвесил затрещину Парамону.
Покатившись кубарем, тот шлепнулся на боярина Бубякина.
– Все печенки раздавил, – охнул Бубякин, схватившись за живот.
Ворота опять открылись. Появился заспанный Акишка, почесывающий хилую грудь сквозь короткую засаленную ночную рубаху. Мосластые ноги торчали из обрезанных валенок, украшенных помпонами. Стражники тут же притихли, виновато опустив головы. Акишка сердито окинул взглядом всех, зевнул и спросил:
– Почто крик подняли? Марш все на конюшню! Будете пороть друг друга розгами, покамест я вкушать разносолы буду, – и надменно добавил. – Барыня мне уж самолично стол накрыла.
Кинувшись ему в ноги стражники, заголосили:
– Не вели казнить, вели слово молвить, Ким Терентьевич! Не наша в том вина.
И дружно указали на Соловья-Разбойника.
– Он зачинщик, он забиячил!
Фрол укоризненно покачал головой:
– Негоже, стражники, негоже.
Выступив вперёд, сказал:
– Я повинный, Ким Терентьевич. Стражников не трожь. Не почести сие будет. Я старшой, мне и ответ держать. Башибузук тоже ни при чем. Не мог он знать, что дозволено у нас, а чего нет. Вот такое мое слово.
Соловей-Разбойник ободряюще хлопнул Фрола по плечу, да так, что стражник присел:
– Ну, мужик, кремень! – с уважение сказал Разбойник. – Но перед кем винишься? – Соловей прищурился и неспешно с ног до головы оглядел Кима Терентьевича. – Перед этой немочью в помпонах? Узнал меня али нет, босяк? – спросил он, сверкнув желтым глазом.
Акишка попятился и заверещал:
– Бубякин! Где Бубякин? Звать стражников! Гнать в шею! Розгами, розгами его!
Услышав Акишку, боярин Бубякин всполошился и, с трудом перекатываясь через собственное брюхо, встал на четвереньки. Подняться ещё не успел, но уже испуганно затряс щеками:
– Поспешаю, поспешаю, Ким Терентьевич, оприходуем башибузука в один момент!
Парамон запрыгнув Бубякину на закорки, замахнулся на него:
– Не смей даже шебаршиться, прихвостень босяцкий.
Барин, прижавшись к земле, зашептал:
– Ежели бы вы от Акишки избавили, то благодать мне была бы. Измучил, извел меня лохмотник, всю кровушку испил, всю жизнь перелопатил.
Из-за кустов выставив рога, вылетела коза. Блеяние её было похоже на разъяренный вопль, в прищуренных глазах горел огонь, острые концы рогов блестели, хвост боевито торчал вверх. Стражники отскочили в разные стороны. Соловей-Разбойник присвистнул:
– От прыткой козы ни забор, ни запор. Не коза, а шишига рогатая!
– Не дерзи, – цыкнула на Разбойника через плечо коза и, подцепив на рога Акишку, принялась его трепать.
С худых акишкиных ног слетели валенки, помпоны отвалились, рубаха задралась выше головы. Стражники по первости обомлели, а затем загоготали во все горло, указывая пальцем на растрепанного и испуганного Акишку. Фрол крепился, прыская в кулак, но не выдержал и захохотал. Смеялись и Марьюшка с Макаром, и Бранибор, и Стёпка. Лишь Ерёма пристально разглядывал козу.
– Эй, Стёпка, скажи, мне мерещиться, али Гипотенуза нарисовалась пред нашими очами?
– Эй, Гипотенуза, – крикнул Стёпка, – почто не здороваешься? Своих не признала?
Коза сбросила Акишку с рогов, посмотрела на пса и гонца, и вдруг её морда расплылась в улыбке:
– Родненькие мои, уж и не чаяла вас живыми увидеть. Радость-то какая! – и забыв об Акишке, подбежала к Ерёме и ласково потерлась о ноги.
Босяк бочком-бочком отполз в сторону, жалобно хныкая и потирая ушибленные места.
Бранибор подмигнул Фролу:
– Вяжи голоштанника, да на конюшню его. Пущай самолично розги попробует. Да уж и барина своего на ноги поднимите, а то непотребно выходит, когда боярин, аки червь земляной ползает.
Фрол кивнул стражникам, те подхватили и потащили сопротивляющегося Акишку на конюшню. Барина с почтением подняли, отряхнули и повели в палаты.
– Ты-то как тут оказалась? – спросил Ерёма Гипотенузу.
Коза тяжело вздохнула:
– У нас такие дела творятся в царстве-государстве, врагу не пожелаешь.
– Да говори толком! – забеспокоился Ерёмка. – Что случилось?
Коза опять шумно вздохнула:
– Право слово, язык не поворачивается .
Стёпка встревожился:
– Жив ли царь Дорофей? А то помрет, а я без ордена останусь.
Пока Ерёмка, Стёпка и Гипотенуза разговаривали, все ушли в боярские хоромы.
– Жив, жив Дорофей, – отвечала Гипотенуза, – но хвороба его одолела, да такая, что спасения нет никакого. Влюбился наш царь. Науки забросил, звёзды не разглядывает, ёлки не считает. Токмо и знает, что невесту свою поблажает. Но самая большая беда в том, что теперича царь наш батюшка не покладаючи рук трудится. И всё царство-государство работать заставляет. Говорит, что наследникам надоть богатое государство оставить, чтобы, значит, гордились они Дорофеем.
– Не пойму, – задумчиво произнёс Стёпка, – тебе какая печаль?
– Если бы вы знали, сколько теперича у меня забот! Прежде стояла у забора, размышлениям предавалась. Меня Марфутка жалела, Сидор, опять-таки. Травы приносили, бока чесали, а нонче по лугам по полям гоняют. Да ещё и дорофеева невеста каждый день проверяет, сколько молока даю. Замучили вовсе. Вот и сбежала. Надумала быть вольной козой. Хочу – пасусь, хочу забор чешу. И никто мне не указ.
Ерёма рассмеялся:
– Стало быть, с пастухом тебе пастись надсада, а самой по полям скакать – воля вольная. Сказала бы Дорофею, пускал бы тебя саму пастись.
Коза обиделась:
– Будто вы не знаете, кто спорит с Дорофеем, тот воюет с собой.
– Акишку за что трепала? Обидел он тебя? – поинтересовался пёс.
Гипотенуза потупила голову, вздохнула:
– Знать его не знаю.
– Зачем тогда? – удивился Стёпка.
– А чего он бубенчики на валенки нацепил? Это наше, козье дело, с бубенцами ходить.
Ерёма засмеялся:
– Эх ты, голова рогатая, то не бубенцы, а помпоны.
– Всё одно обидно, – заупрямилась Гипотенуза. – Поделом ему, поделом!
Из ворот выбежал Соловей-Разбойник, без разговоров сгреб Ерёмку, Стёпку в охапку, схватил козу за рога и потащил в боярский дом.
Глава IV
Во главе стола восседал важный боярин Бубякин, рядом с ним румяная барыня. Марьюшка, Макар и Бранибор занимали почётные места гостей. Звон-Парамон не мог усидеть и вертелся на лавке. Стражники теснились по углам. В дверях толкался дворовый люд. На середину светлицы вывели понурого Акишку. Был он всё в той же ночной рубахе и валенках, в волосах застряла солома. Раскаяние разлилось по его горестному лицу, но глаза хитровато поблескивали.
Макар, как старший из всех, принялся вести допрос:
– Скажи-ка, Ким Терентьевич, почто ты боярина дурачил?
Акишка, не поднимая головы, пожал плечами:
– Никого я не дурачил.
Боярин раскалился, словно чугунок в печи:
– Как так не дурачил? А кто мне говорил, что выведешь из Земли Грёз, если я дам слово, тебя, босяка, принимать в своем доме с почестями.
– Люди добрые, – заголосил Акишка, – посудите сами: в чем обман? Честь по чести вывел я барина из Земли Грёз,– затем обернулся к дворовым. – Неужто запамятовали, как три дня пировали по случаю возвращения боярина?
Дворня загалдела перешептываясь.
– Ай-яй-яй, неблагодарные, – укоризненно покачал головой Акишка. – Забыли уж, как барыня на радостях каждому самолично дары боярские раздавала? Как в ножки вы ей кланялись, благодарили.
Дворовый люд загомонил:
– Помним, помним. Как не помнить?
– Обещал вывести – вывел. Где обман? – подбоченившись спросил босяк у Бубякина.
– Тут обмана не было, – согласился боярин.
– А почто же ты, почтеннейший, народ в заблуждение вводишь? – расправил плечи Акишка.
Лицо Бубякина налилось кровью:
– Ты мне, босяк, что говорил? Ежели я тебя не буду всяко ублажать, то мечтами своими ты меня вновь в эту треклятую Землю Грёз возвернешь.
Акишка наморщил лоб, почесывая темечко, потом тряхнул головой:
–Не, барин, того не помню. Хоть убей, не помню, дабы я тебе такие слова говорил.
– А ежели тебя, голубчик, на кол посадить, – разгневалась боярыня, – глядишь, и память вернётся к тебе?
Босяк упал на колени:
– Матушка – заступница, и охота тебе злыдничать, мою щуплую плоть увечить?
Макар сурово сдвинул брови:
– Ты, Акишка, говори, да не заговаривайся! Как так случилось, что весь боярский двор токмо и знал, что тебя ублажать, да прихоти твои исполнять?
У босяка появилось изумление на лице:
– Чудной вы народ! Токмо по милости боярской, по душевному состраданию к моей многотрудной жизни. Барин Бубякин самовластно повеления давал.
Дворня сначала робко, а затем захохотала в голос. Смеялись и стражники, и Бранибор с Марьюшкой, и Парамон, только боярин обиженно сопел, наливаясь краской. После со всей силы хватил кулаком по столу:
– Ша! Забылись, глядя на шута горохового? На плаху его! Казнить!
Во внезапно наступившей тишине раздался жалобные всхлипы Акишки:
– Говорил мне папаня, что барские милости дорого стоят, а нам, беспорточникам, нечем уплачивать за них. Но боярин нашёл награждение за щедроты свои… Жизнь мою горькую забирает… Не дышать более груди моей воздухом вольным, не видать глазам моим солнышка ясного. Ох, прощайте, ручки-ноженьки мои, токмо здесь вы отдых и увидели-почуяли. Прощай, моя головушка бесприютная. За то что опочивала на подушках мягких пуховых, лежать тебе во сырой земле. Не найти мне свою суженную, отраду сердцу не восчувствовать, не качать мне деток своих, не радоваться внучкам, которые теребили бы мою седую бороду, да радовали на старости лет.
Акишкины причитания разжалобили дворовый люд, бабы заплакали, утирая слёзы краешками платков. Мужики сочувственно вздыхали.
Барин угрюмо рявкнул:
– Цыц, шельмец! Раз ввёл меня, боярина Бубякина, в заблуждение, тебе и ответ держать.
– Погоди, боярин, – Марьюшка остановила Бубякина, – несправедливость выходит. То, что Ким Терентьевич тебе говорил – сие одно. Но ты-то, почему повелся на плутовство его? Теперь за обиду свою хочешь его наказать. Не по-боярски выходит, не по чести.
– Может оно и так, – пробубнил Бубякин, – но щадить не буду.
В светлицу ворвался Соловей-Разбойник, таща за рога козу. Следом протиснулись Ерёмка и Стёпка. Отодвинув всех и Акишку тоже, Разбойник зычно спросил:
– Куда короб мой подевали?
– Дык в сенях оставили, – ответил Фрол.
– Шишки-кочерыжки! – стал ругаться Разбойник. – Там же птица Гамаюн! А вы тут в бирюльки играете! Судилище устроили над нищебродом!
– Вот-вот, и я о том же, – подхватил Акишка. – Не стыдно ли высокочтимому обществу куражиться над сиротой.
– Какой такой сирота? Ты же о папане токмо поминал? – удивился Парамон.
– Как папаня передал слова те премудрые мне, так и помер, – скорбно произнёс босяк. – Маманя тоже на погост вслед за папаней пошла. Мыкаюсь сиротинушкой бесприютной с тех самых пор .
Затем засуетился:
– Пойдем, Соловушка, покажу тебе, где короб твой драгоценный оставили.
И расталкивая всех, побежал в сени.
– Вот прощелыжник, – восхитился Фрол, – убёг!
Народ повалил следом, любопытно было на Птицу Гамаюн поглядеть. Соловей-Разбойник вынес короб во двор. Акишка крутился под ногами у Разбойника, делая вид, что помогает, однако больше мешал.
– Вот сюда, сюда ставь, – рукой очищая место на земле, тараторил босяк, затем перескакивал чуть дальше. – Глянь, а может птичке на деревце лучше будет? Или смотри, камушек ровнехонький. Вскочит птичка на камушек, крылышками помашет, а мы ей зернышек насыплем. Эй, конюхи, тащите овес, пшеничку, будем птичку кормить!
– Брысь отсюда! – Разбойник зыркнул на босяка лиловым глазом.
Акишка откатился в тень и затаился, боясь попасться на глаза боярину. Соловей, открыв короб, бережно достал Птицу Гамаюн. Ликом светлым была Птица, волосы огнём сияют, глаза – бушующее море, тревога в них полощется. Оперение алое. От оперения того озарилась светом червонным округа, наполнилась благоуханием сотней сотен роз. Вдохнул дворовый люд аромат цветов прекрасных, но невидимых, на лицах улыбки расцвели, ушли негодование и досада. Любовь засветилась в глазах. Приобнял боярин свою боярыню, нет для него краше никого на свете. Посмотрел Бранибор на Марьюшку, понял: вот она, его суженая. У Марьюшки слёзы серебряные из глаз скатились, ударившись оземь, рассыпались на сверкающие росинки. В землю ушли и в месте том небесно-голубые незабудки разом выросли. Наклонилась к ним Марья и слышит матушкин голос: «Сердечко моё, доченька, невдолге увидимся». Почувствовал Макар, скоро и он встретит свою единственную и ненаглядную, приложил руку к груди, чтобы унять сердечный трепет, улыбнулся. Гипотенуза робко вздохнула: «Где-то мой серый козлик Бурре». Акишка пригорюнился: «Негодный я человек. Доверчивый народ облапошиваю, токмо бы лодырничать. Помру бобылем на пыльной дороге. Ничего после меня не останется на белом свете». Посмотрел босяк на барина с боярыней, а они будто два голубка рядышком. Фрол глядит на свою жёнушку взглядом нежным. Она же детишек обнимает, нарадоваться на них не может. Рядом с Марьюшкой сенная девка Дуська стоит. Маленькая, шустренькая, сероглазая, нос курносый, на русых волосах венок из пёстрых осенних листьев. Вдаль вглядывается, по всему видно, о женихе мечтает. Заколотилось сердечко у Акишки, понял, что ради девчонки сероглазой бросит он свою беспутную жизнь, за ум возьмется, чтобы сделать Дуську счастливой, не пожалеет ни сил, ни жизни. Обернулась девица на Акишку и вдруг увидела не босяка, а парня молодого, озорного, весёлого. И столько ласковости в его взгляде, что сердечко девичье разомлело.
Взмахнула Птица Гамаюн крылами, ушло сияние. Потемнел день. Кровавый закат встал. Грозовые тучи обрамляют пламенеющее небо. Громадные чёрные вороны меж туч летают, злобным карканьем погибель предвещают. Издалека буря надвигается, притаилась в ней злая вражья сила, превращающая в прах и пепел всё живое на своем пути. Суровыми стали лица, встревоженность во взорах появилась. Матери детей к себе прижали, оберегая. Мужья жён своих.
Подняла голову Птица, запела. Высоко звучит голос, печальную песнь поёт Гамаюн о тяжёлых временах, что грядут. Но в песне той нет страха, нет отчаяния. Отвага и решимость звучат в песне, сила любви и веры звучат в поднимающемся к небесам голосе. Слушает дворовый люд песнь молча. У некоторых смятение в душе она родила, что делать и не знают: и за себя боязно, и за отчий дом. У других ядовитой змеёй трусость выползла со дна гнилой душонки, шипит, пугает, прятаться велит. Неустрашимые сердца смелостью наполнились, вера в землю родную, в соотчичей храбрость укрепила. Умолкла последняя нота. День вернулся, как был. Стоит дворовый люд думу думает, разгадать старается увиденное, понять прочувствованное.
Взмахнула крылами Птица Гамаюн, лазурным оперение её стало, каждое перышко окаёмкой серебряной украшено, волосы огнём пылают. Тихо говорит она, но все слышат:
– Беда на нашей земле. Войной пошёл Чернобог против Батюшки Солнца. Хочет быть единым властителем и царствовать безраздельно. Хочет всю землю живую в омертвелую пустошь превратить, людей изничтожить, реки и моря высушить. Прежде сына своего, Князя Мрака и Тлена, послал он. Не одолел ни Князь Мрака, ни челядь его лукавая дух русский.
Нынче сам Чернобог войной идет. Силён и коварен ворог. Многие могут погибнуть. Слабые духом – предать. Но если не вступите в бой с Царём Мрака, тьмой покроется земля, сгинет всё живое.
Ещё раз взмахнула Птица Гамаюн крылами, и предстал перед народом Конь-Огонь. Сияет, сверкает, будто само солнце сошло на землю. Одна шерстинка у него золотая, другая серебряная. Грива в косы заплетённая. Ногами перебирает, головой трясет, не терпится вскачь пуститься. Ахнул народ от красоты такой.
– Батюшка Солнце дарит этого коня тому, кто сможет его обуздать. Будет он верным товарищем. Из беды спасёт, в ратном сражении не подведёт. Ещё есть три вещи, которые помогут вам: дерзость, отвага и благоразумие. Помните об этом, – сказала Птица Гамаюн. – Передала я весть, пора мне далее лететь.
Поднялась ввысь Птица, слилась с небесами и пропала, будто никогда её и не было. Удивляется дворовый люд: может, в самом деле, померещилось? Одначе вот он – Конь-Огонь стоит, ушами прядёт, гривой машет, копытами перебирает. Подошёл первый смельчак, запрыгнул на коня, но сбросил его конь. И второго сбросил, и третьего. Шумит народ:
– Да есть ли на свете такой наездник, кто смог бы обуздать коня? Напутала что-то Птица Гамаюн. Как же в бой на нём идти? Не для ратных дел Конь-огонь.
И справа обходят коня, и слева, но конь более никого к себе не подпускает, ржёт, на дыбы становится. Поглядел-поглядел на это дело Соловей-Разбойник, да и говорит:
– Не про вашу честь сей подарок. Будет время, найдется хозяин ему.
Тут и боярин Бубякин вспомнил об Акишке:
– Куда острожник подевался? Подать его сюда немедля!
Потом подобрел немного и добавил:
– На кол сажать так и быть, не буду. Но сотню плетей получит! Да так чтобы на всю жизнь запомнил лохмотник, как барина дурачить!
Стражники бросились исполнять боярское повеление. Сенная девка Дуська со слезами кинулась в ноги:
– Боярин! Не губи Акишку.
– Да тебе какая печаль? – удивляется барыня. – Почто убиваешься?
Встала Дуська, слёзы вытерла, посмотрела в глаза боярыне и отвечает:
– Люблю я его! Всем сердцем люблю!
– Да когда же успела? – диву далась боярыня.
– Как Птица Гамаюн крылами взмахнула, чародейный розовый аромат напустила, да червонным светом озарила округу, так и полюбила. Парень он незлой, беспутный токмо, а то беда поправимая. Милёнек – и не умыт белёнек. Об одном прошу, барин, смилуйтесь, пощадите! Я за это всё сделаю, что повелите.
– Ну, коли просишь, – отвечал боярин, – то так и быть. Вместо Акишки тебе будет сотня плетей. Его же пощажу.
Побледнела Дуська, голову уронила и отвечает:
– Спасибо, барин. Не забудь токмо отпустить Акима, как сговаривались.
Ропот поднялся среди дворового люда:
– Виданное ли дело, девчонку плетьми!
– Помрет девчонка!
– Негоже, барин, негоже безвинную душу губить!
Нахмурился боярин Бубякин:
– Всякая сорока от своего языка погибает. Не я её спрашивал, сама вызвалась.
– Да ты что ополоумел, боярин? – расталкивая всех, выбежал вперёд Акишка. – Вот он я! Меня вяжите-хватайте! Дуську отпустите! У девки, известное дело, волос долог, да ум короткий. Сама не понимает, что говорит!
Затем повернулся к девчонке:
– Дал я, Дуся, слово себе, что ни сил, ни живота своего за-ради тебя не пожалею. Сделаю тебя счастливой. Одначе не суждено тому слову сбыться. И позволить, чтобы ты в отместку меня наказание несла, не могу. Просьба у меня к тебе есть, краса-девица. Ежели не сдюжу от тех плетей, да помру, то выходи замуж за человека доброго. Ежели сын родится, то дай слово, назвать его моим именем. Будет это отрадой мне в мой смертный час. Буду знать, что не позабудешь ты меня, любовь мою к себе не позабудешь.
Глянул на боярина и говорит:
– Вели, барин, вести меня куда требуется, готов я.
Кивнул головой стражникам боярин Бубякин, схватили они Акишку и поволокли.
– А ну-ка, стойте! – приказала боярыня. – Нет на то моего согласия. Не позволю, барин, я тебе на посмешище и поругание себя выставлять. Не время сейчас счёты вздорные сводить. Беда на нас движется. Забудь об обиде.
Насупился барин:
– Так ты же сама, душа моя, предлагала Акишку на кол посадить, а я токмо плетьми велел выпороть.
Улыбнулась барыня:
– Дык, голубь мой сизокрылый, я же для острастки. Неужто не помнишь, как любовь меж нами зарождалась? Неужто забыл трепет сердечка и сладкие надежды?
– Помню, всё помню, голубушка моя, – отвечал боярин.
– Знаю, нрав у тебя, любезный муж мой, крутой, но сердце доброе и отходчивое. Неужто из-за обиды своей ты готов два любящих сердца разбить-разлучить? – заворковала боярыня.
Не отвечает боярин, думает. Зазвучал металл в голосе боярыни:
– Ежели не отменишь своего приказания, то я за себя, муж мой разлюбезный, не ручаюсь! Либо в обморок тотчас же упаду, либо к батюшке с матушкой уеду!
– Что ты! Что ты! – взволновался боярин. – Я тоже для острастки, лебедушка моя. Обида у меня на Акишку в том, что из-за него с тобой я не виделся долгое время, пока в Земле Грёз пребывал. Опосля боялся вновь там оказаться, тебя лишиться.
– Эх, барин, – вскричал Акишка, – кабы знал я тогда, что такое любовь, кабы знал, что не мил и свет, когда милого нет. Виноват я перед тобой и боярыней! Не знаю, как и прощение пред вами выпросить. Но если сможете, простите великодушно.
– Да чего уж там. И моя вина есть, что поддался хитрости твоей, – отвечал боярин Бубякин. – Вот ворога победим и свадьбу вам с Дуськой справим. Отпустите Акишку, – приказал он стражникам.







