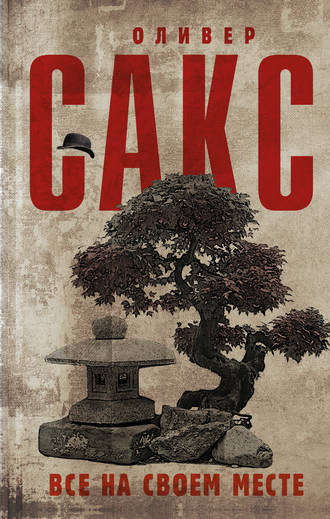
Оливер Сакс
Все на своем месте
Однако в реальности я вижу другое: когда я приступил к написанию моей первой книги, «Мигрень», в 1967 году, меня вдохновляла природа этого заболевания и встречи с моими пациентами, но в равной степени – и «старая» книга на эту тему, «Megrim» Эдварда Лайвинга, написанная в 1870-х годах. Я взял эту книгу в редко посещаемой исторической секции библиотеки медицинского института и прочитал от корки до корки с восторгом. Полгода я перечитывал и перечитывал ее, и узнал Лайвинга очень хорошо. Его присутствие и образ мыслей постоянно вдохновляли меня. Продолжительная встреча с Лайвингом оказала решающее влияние на мои мысли и мою книгу. Точно так же на меня, двенадцатилетнего, повлияло знакомство с Гемфри Дэви, открывшее путь в науку. Разве могу я считать, что история науки, прошлое, не имеет значения?
Вряд ли мой опыт уникален. Многие ученые, а также поэты и художники, чувствуют живую связь с прошлым – не как абстрактное ощущение истории и традиции, но как общность с коллегами и предшественниками, с предками, с которыми можно вести скрытый диалог. Порой наука считает себя имперсональной, «чистой мыслью», независимой от своих исторических и человеческих корней. Часто ее так и преподают. Однако наука – человеческое дело от начала и до конца, живое, развивающееся, как и человек, с неожиданными прорывами и тупиками и со странными отклонениями. Наука растет из прошлого, она не отвергает его, как мы не отвергаем наше детство.
Библиотеки
В детстве любимым моим местом в доме была библиотека, большая обитая дубом комната: вдоль четырех стен книжные полки – и солидный стол в центре, чтобы писать и читать. Именно тут мой отец держал особую коллекцию книг по ивриту; здесь же было полное собрание пьес Ибсена (мои родители познакомились в Обществе любителей Ибсена медицинского института); на отдельной полке стояли книги молодых поэтов, ровесников отца, многие из которых погибли на Великой войне; и на нижних полках – и мне было легко до них добраться – стояли приключенческие и исторические книги моих братьев. Именно тут я обнаружил «Книгу джунглей» Киплинга; я целиком отождествлял себя с Маугли, и его приключения служили отправной точкой моих фантазий.
Мамины любимые книги стояли на отдельной полке в гостиной: Диккенс, Троллоп и Теккерей; пьесы Бернарда Шоу в бледно-зеленых переплетах и весь Киплинг в мягком красном сафьяне. Там были прекрасный трехтомник Шекспира, Мильтон с золотым обрезом и другие книги, чаще поэзия, которые мама получала в школе в качестве призов.
Медицинские книги хранились в отдельном запертом шкафу в рабочем кабинете родителей (однако ключ торчал в двери, открывай сколько хочешь).
Обитая деревом библиотека была, на мой взгляд, самой тихой и самой прекрасной комнатой в доме – именно здесь, а еще в своей химической лаборатории я больше всего любил бывать. Я сворачивался клубочком в кресле и так погружался в чтение, что совершенно терял ощущение времени. Если я опаздывал к обеду или ужину, меня всегда можно было найти в библиотеке. Читать я научился рано, в три или в четыре года; книги и библиотека – среди моих первых воспоминаний.
Однако Библиотекой с большой буквы стала для меня местная публичная библиотека Уиллсден. В ней я провел самые счастливые часы взросления – мы жили в пяти минутах от нее; именно там я получил свое настоящее образование.
В целом я не любил ходить в школу – сидеть в классе, получать указания; информация в одно ухо влетала, в другое вылетала. Я не мог быть пассивным – мне нужна была активность, хотелось учиться самому, учиться тому, что было мне интересно, и так, как это подходило мне. Я не был примерным учеником, но учился хорошо, и в Уиллсденской библиотеке – а потом и в других библиотеках – я рыскал по полкам и хранилищам, вольный выбирать то, что захочу, следовать путем, который меня увлекает, быть самим собой. В библиотеке я чувствовал свободу – свободу глядеть на тысячи, десятки тысяч книг; свободу бродить и наслаждаться особой атмосферой единения с другими читателями, ведущими, как и я, собственный поиск.
Становясь старше, я постепенно склонялся к науке, особенно к астрономии и химии. В школе Сент-Пол, куда я отправился в двенадцать лет, была великолепная общая библиотека Уокера, особенно в секциях истории и политики, но она не могла предоставить все научные, и особенно химические, книги, которых я тогда жаждал. По специальному разрешению от руководства школы я смог получить билет в библиотеку Музея науки, и там я проглотил тома меллоровского «Полного трактата по неорганической и теоретической химии» и еще более обширную «Гмелиновскую настольную книгу по неорганической химии».
Поступив в университет, я получил доступ к двум великим библиотекам Оксфорда: Научной библиотеке Рэдклиффа и Бодлианской, великолепной общей библиотеке, отсчитывающей историю с 1602 года. В Бодлианской библиотеке я наткнулся на непонятные сегодня, а то и забытые работы Теодора Хука, который вызывал восхищение в начале девятнадцатого века своим умом и выдающимися способностями к театральным и музыкальным импровизациям. Меня так очаровал Хук, что я решил написать его биографию или своего рода «историю болезни». Ни одна другая библиотека – кроме библиотеки Британского музея – не могла предоставить нужные мне материалы, и безмятежная атмосфера Бодлианской библиотеки была идеальным местом для написания.
Но больше всего я любил в Оксфорде нашу библиотеку в Королевском колледже. Само величественное здание библиотеки спроектировал Кристофер Врен; громадные хранилища библиотеки прятались внизу, в подземном лабиринте отопительных труб и полок. Держать в руках древние книги, инкунабулы, было для меня новым опытом. Особенно восхищали Гесснеровская «Historiae Animalium» (1551) – богато иллюстрированная замечательными гравюрами, включая нарисованного Дюрером носорога, и четырехтомник Агассиса, посвященный ископаемым рыбам. Именно там я впервые увидел оригинальные издания всех работ Дарвина; в хранилищах я нашел все работы сэра Томаса Брауна и влюбился в них: «Вероисповедание врачевателей», «Гидриотафия» и «Сад Кира». Там было много абсурдного, но какой волшебный язык! А тот, кто пресытился классической напыщенностью Брауна, мог переключиться на лапидарные колкие пикировки Свифта – все его книги были представлены, разумеется, в оригинальных изданиях. Я вырос на произведениях девятнадцатого века, которые любили мои родители; катакомбы библиотеки Королевского колледжа познакомили меня с литературой семнадцатого и восемнадцатого веков: Джонсон, Юм, Поуп и Драйден. Все эти книги хранились в открытом доступе, не прятались в особом анклаве редкостей, а стояли на полках, как стояли (представлялось мне) со времен издания. В подвалах Королевского колледжа я по-настоящему обрел чувство истории и своего языка.
В Нью-Йорк я впервые попал в 1965 году и жил в ужасной тесной комнатушке, где было трудно найти место, чтобы читать и писать. Только на холодильнике, нелепо оттопырив локоть, я мог записывать фрагменты «Мигрени». Я нуждался в пространстве. К счастью, в библиотеке медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, где я работал, места хватало с избытком. Я сидел за большим столом, читал и писал, а потом бродил по хранилищам.
Библиотека – тихое место, но иногда вдруг возникали беседы шепотом: например, двое искали одну и ту же старую книгу, одну подшивку журнала «Мозг» за 1890 год, – и беседа могла перерасти в дружбу. Каждый из нас в библиотеке читал свою книгу, был погружен в собственный мир, но все равно возникало чувство общности, даже близости. Энергетика книги, ее место на полке и книги-соседи являлись частью этого товарищества: мы брали книги, делились ими, передавали из рук в руки, видели имя предыдущего читателя и дату, когда он брал книгу.
В 1990-х произошли изменения. Я по-прежнему ходил в библиотеку, сидел за столом перед горой книг, но студенты все больше игнорировали читальные залы, получая все необходимое из компьютера. Теперь мало кто подходил к полкам. Книги как таковые оказались не нужны. И, поскольку большинство пользователей уже не брали книги, колледж в конце концов решил избавиться от них.
Я понятия не имел, что это происходит не только в библиотеке Эйнштейна и в библиотеках колледжей, но и в публичных библиотеках по всей стране. Я пришел в ужас, посетив недавно библиотеку и обнаружив полки, когда-то ломившиеся от книг, полупустыми. За несколько последних лет большинство книг, похоже, были просто выброшены – и мало кто протестовал. Мне казалось, что совершено убийство, преступление: уничтожены века знаний. Видя мое расстройство, библиотекарь успокоила меня: все «ценное» оцифровано. Но я не пользуюсь компьютером, и меня безмерно печалит потеря книг и даже подшивок периодических изданий; есть нечто незаменимое в бумажной книге: ее вид, ее запах, ее тяжесть. Вспоминаю, как прежде библиотекари лелеяли «старые» книги, выделяли специальные помещения для древних и редких книг; ведь именно роясь в хранилищах, в 1967 году, я обнаружил труд Эдварда Лайвинга 1873 года – «Megrim», который вдохновил меня написать мою первую книгу.
Путешествие внутрь мозга
Я впервые прочитал книгу Фридьеша Каринти «Путешествие вокруг собственного черепа», когда мне было тринадцать или четырнадцать, – благодаря ей я решил писать неврологические очерки. Теперь, перечитывая книгу шестьдесят лет спустя, я нахожу ее вполне современной. Это не просто подробная история болезни – это описание болезни, угрожающей зрению, мышлению и всей жизни человека выдающихся способностей, почти гения. Это путешествие озарений, символических стадий.
Книга не лишена недостатков: долгие философские отступления там, где хочется сжатого повествования, излишняя экстравагантность, обилие причудливых вывертов… Впрочем, Каринти и сам все больше замечает их по мере написания книги и, отрезвленный опытом, старается ограничить писательское воображение фактической, даже клинической реальностью ситуации. Однако при всех недочетах произведение Каринти, на мой взгляд, шедевр. У нас сейчас море медицинских мемуаров – в последние два десятилетия этот жанр переживает настоящий бум. Пусть медицинская техника изменилась, человеческий опыт остался прежним; и «Путешествие вокруг собственного черепа», первое автобиографическое описание путешествия внутри мозга, – одно из лучших.
Фридьеш Каринти, известный венгерский поэт, драматург, романист и юморист, родился в 1887 году; в возрасте сорока восьми лет у него появились первые симптомы опухоли мозга.
Однажды вечером он пил чай в любимом будапештском кафе и вдруг услышал «отчетливый грохот, а затем ощутил медленную, нарастающую дрожь… Грохот усиливался… и постепенно стих». Каринти огляделся и с удивлением обнаружил, что ничего не происходит. Никакого поезда; да и вокзала поблизости нет. «Что это? – подумал Каринти. – Откуда поезда?.. или какое-то новое средство передвижения?»
Только после четвертого «поезда» он сообразил, что у него галлюцинация.
Каринти вспоминает, что прежде слышал, как кто-то произносит шепотом его имя, – такое случается с каждым. Однако здесь было нечто иное:
«Грохот поезда был громким, настойчивым, непрерывным. Он заглушал остальные звуки… Немного погодя я с изумлением понял, что внешний мир тут ни при чем… шум возникает внутри моей головы».
Многие пациенты говорили мне о том, что первые звуковые галлюцинации обычно не голоса или шум, а музыка. Все, подобно Каринти, оглядывались, ища источник звука; и только не найдя его, неохотно приходили к выводу, что испытывают галлюцинацию. Многие люди в такой ситуации боятся, что сходят с ума: разве не типично для сумасшедшего «слышать голоса»?
Каринти не был столь категоричен на сей счет:
«Для меня… происшествие вовсе не было пугающим, только странным и необычным… Я не сошел с ума, иначе не мог бы анализировать происходящее. Дело в чем-то другом».
Первая глава его мемуаров («Невидимый поезд») начинается как детективная история или мистический роман, с загадочного и странного происшествия, которое отражает изменения, начинающиеся – медленно, скрытно – в его собственном мозге. Сам Каринти – одновременно и объект, и исследователь в разворачивающейся драме.
Одаренный рано проявившимся талантом (первый роман он написал в пятнадцать), Каринти добился известности в 1912 году – ему было двадцать пять лет, – когда опубликовали целых пять его книг. Хотя он получил математическое образование и активно интересовался всеми аспектами науки, больше всего он известен своими сатирическими сочинениями, политической страстью и невероятным чувством юмора. Каринти писал философские труды, пьесы, стихи, романы; а во время появления первых симптомов работал над громадной энциклопедией, которая, как он надеялся, станет в двадцатом веке эквивалентом монументальной «Энциклопедии» Дидро. Он провел подготовительную работу, у него был план… а теперь, вынужденный уделять внимание тому, что происходит в собственном мозгу, Каринти только делал записи и размышлял, не представляя точно, что ждет его впереди и чем все это закончится.
Галлюцинаторный шум поезда вскоре стал привычным. Каринти слышал этот шум постоянно, каждый вечер в семь часов – и в любимом кафе, и в других местах. А через несколько дней начали происходить еще более странные события:
«Зеркало напротив меня как будто сдвинулось с места – не намного, всего на каких-то несколько дюймов, да так и осталось… Но что это происходит?.. Не было никакой головной боли, я не слышал поездов, сердце билось совершенно нормально… Тем не менее, все вокруг, и я сам, словно потеряло связь с реальностью. Столы остались на своих местах, два посетителя просто шли по кафе, а перед собой я видел знакомый кувшин с водой и коробку спичек. Но в каком-то призрачном и пугающем смысле все стало условным, словно оказалось здесь случайно, а могло находиться совершенно в другом месте… А потом началась какая-то чертовщина: исчезла всякая опора, захотелось уцепиться за что-нибудь… не осталось ни одной устойчивой точки… Разве только в голове. Мне бы ухватиться за единственный образ, или воспоминание, или ассоциацию, чтобы осознать себя. Хоть единственное слово».
Перед нами замечательное описание ощущений, возникающих, когда подрываются основы восприятия, сознания, самого «я»: человек падает в «пропасть небытия», по меткому выражению Пруста, – пусть на несколько мгновений, которые, однако, кажутся вечностью, и отчаянно ищет какой-то образ, воспоминание, слово, за которое можно ухватиться.
В тот момент Каринти начал понимать, что происходит нечто странное и серьезное; он подозревал, что пережил приступ или доработался до инсульта. В следующие недели появились новые симптомы: приступы тошноты и рвоты, нарушения равновесия и походки. Он старался не обращать внимания, но наконец, обеспокоенный растущим помутнением в глазах, обратился к офтальмологу. И началась его печальная медицинская одиссея.
«Врач, к которому я вскоре пришел, даже не осматривал меня. Не успел я описать и половины своих симптомов, он поднял руки:
– Дорогой друг, нет у вас ни воспаления среднего уха, ни инсульта… Никотиновое отравление, вот что у вас!»
И в Будапеште 1936 года, и, скажем, в Нью-Йорке семь десятилетий спустя есть врачи, которые не слушают, не осматривают и делают самоуверенные поспешные выводы, – они опасны и сейчас, как тогда (что прекрасно описано Джеромом Групмэном в книге «Как думают доктора?»). Вполне излечимые заболевания не диагностируются, пока не окажется слишком поздно. Если бы первый врач обследовал Каринти, он обнаружил бы нарушения координации, свидетельствующие о нарушениях в мозжечке; заглянув ему в глаза, он увидел бы папиллоэдему, отечность оптического диска, верный признак повышенного внутричерепного давления. Если бы врач всерьез прислушался к тому, что говорит пациент, он, возможно, уже тогда поставил бы ему правильный диагноз, потому что не бывает подобных звуковых галлюцинаций или внезапных помутнений сознания без значительной мозговой причины.
Впрочем, Каринти принадлежал к богатой и плодотворной культуре будапештских кафе, и в круг его знакомств входили не только писатели и художники, но также ученые и врачи. Шли недели, Каринти одолевали два воспоминания: о молодом друге, умершем от опухоли мозга, и о виденном когда-то фильме, где великий нейрохирург-первопроходец Харви Кушинг проводил операцию на мозге пациента, находящегося в сознании.
Каринти, заподозрив у себя опухоль мозга, настоял, чтобы близкий друг, врач-офтальмолог, тщательно исследовал сетчатку его глаз. Воспоминания об этой сцене полны иронии – в них явно виден юмористический дар. Немного смущенный настойчивостью Каринти, врач, который несколько месяцев назад подшучивал над ним, достал офтальмоскоп и взглянул.
«Когда он склонился надо мной, я почувствовал, как маленький инструмент щекочет мне нос, слышал, как доктор сдерживает дыхание, стараясь изучить меня тщательно. Я ожидал привычных утешений: “Ничего страшного! Тебе просто нужны новые очки – теперь чуть помощнее…” Реальность оказалась совершенно иной. Я услышал, как доктор Х. неожиданно присвистнул… положил инструмент на стол и склонил голову набок, глядя на меня с величайшим изумлением, как будто я внезапно стал для него чужим».
Каринти вдруг перестал быть собой – приятелем, равным, таким же человеком со своими страхами и чувствами – и превратился в экземпляр. Доктор Х. «был приятно изумлен, словно энтомолог, обнаруживший новый неизвестный вид». Он выбежал из комнаты, чтобы позвать коллег.
«Невероятно быстро комната наполнилась людьми. Прибывающие с жадностью выхватывали друг у друга офтальмоскоп».
Появился сам Профессор, повернулся к доктору Х. и сказал:
– Мои поздравления! Воистину восхитительный диагноз!
Врачи начали поздравлять друг друга, а Каринти попытался заговорить:
– Господа!.. – скромно начал я.
Все обернулись. Похоже, лишь сейчас они осознали, что в комнате присутствую я целиком, а не только мой оптический диск, ставший центром внимания».
Подобная сцена может произойти, да и происходит, в больницах по всему миру: внимание сосредоточенно на интересной патологии, а ее носитель – человек (возможно, перепуганный) забыт напрочь. Хорошо, если пациент столь мудрый, наблюдательный и красноречивый, как Каринти, напоминает, как легко забыть о человеке посреди «энтомологических» восторгов.
Однако необходимо помнить, какой сложной и деликатной была семьдесят лет назад задача диагностировать и локализовать опухоль мозга. В 1930-е годы не существовало МРТ и КТ, существовали только сложные и подчас рискованные процедуры, как, например, наполнение воздухом желудочков мозга или введение красителя в кровеносную систему.
Так что Каринти месяцами переправляли от одного специалиста к другому, а тем временем его зрение ухудшалось. Дойдя почти до полной слепоты, он попал в странный мир, где не мог с уверенностью сказать – видит он что-то на самом деле или нет.
«Я научился ловить мельчайшие изменения света и достраивать остальное по памяти. Я привыкал к странному полусумраку, в котором жил, и даже начинал любить его. Я еще различал очертания фигуры, а воображение добавляло подробности, как художник, закрашивающий пустой силуэт. Я пытался нарисовать лицо, которое видел перед собой, по голосу человека и его движениям… Мысль, что я, возможно, окончательно ослеп, меня ужасала. То, что я, как мне казалось, вижу, возможно, соткано из той же материи, что и сны. Возможно, я использую слова и голоса людей, чтобы воссоздать утерянный реальный мир… Стоя на пороге между реальностью и воображением, я начал сомневаться – что есть что. Мой телесный взор и мой мысленный взор слились воедино».
Как раз когда Каринти был уже на грани постоянной слепоты, выдающийся венский невролог Отто Петцль поставил точный диагноз опухоли и рекомендовал срочную операцию. Каринти в сопровождении жены отправился с пересадками на нескольких поездах в Швецию, где познакомился с великим Гербертом Оливекруной, учеником Харви Кушинга и одним из лучших нейрохирургов в мире.
В описании Оливекруны, оставленном Каринти, полно озарений и иронии; оно написано в новом, свободном стиле – в отличие от прежних парадных описаний. Деликатно показаны вежливость и сдержанность скандинавского нейрохирурга – в противовес центральноевропейской эмоциональности знаменитого пациента. Каринти был сыт по горло двусмысленностями, отказами, подозрениями; наконец-то он нашел врача, которому мог доверять и которого мог любить.
Оливекруна объясняет, что операция будет длиться много часов, причем только под местным обезболиванием; поскольку в самом мозге нет чувствительных нервов, пациент не чувствует боли, а общая анестезия при такой продолжительной операции слишком рискованна. И добавляет, что при стимуляции некоторых отделов мозга, хотя и нечувствительных к боли, могут появиться яркие зрительные и слуховые воспоминания.
Каринти описывает начало – сверление черепа:
«Раздался адский визг – сталь вонзилась в мой череп. Все быстрее и быстрее она погружалась в кость, и с каждой секундой визг звучал громче и пронзительней… Внезапно, после чудовищного рывка, звук прекратился».
Каринти слышал шум жидкости в голове, но не знал – кровь это или спинномозговая жидкость. Его отвезли в рентгеновский кабинет, где в желудочки мозга закачали воздух, чтобы определить, как их сдавливает опухоль.
В операционной обездвиженного Каринти уложили лицом вниз на стол, и операция началась всерьез. Бо́льшая часть черепа была вскрыта, кости постепенно удалили. Каринти ощущал странное напряжение, чувство давления, затем последовал ужасный рывок… что-то сломалось с противным звуком… И это повторялось много раз… как будто открывали деревянный ящик, отдирая доску за доской.
Когда череп был открыт, вся боль исчезла – что само по себе парадоксально настораживало.
«Нет, мозгу не было больно. И это, пожалуй, раздражало больше, нежели боль. Я бы даже хотел, чтобы было больно. Еще ужаснее реальной боли оказалось мое невероятное положение. Непостижимо для человека лежать с раскрытым черепом и с мозгом, выставленным всему миру на обозрение, – невозможно так лежать и жить… невозможно, невероятно, нечестно оставаться живым – даже не просто живым, а в сознании и в здравом уме».
Время от времени раздавался хладнокровный голос хирурга – он объяснял, подбадривал, и на смену страхам Каринти пришли спокойствие и любопытство. Оливекруна, совсем как Вергилий, вел поэта-пациента по кругам и ландшафтам его же собственного мозга.
Шесть или семь часов операции для Каринти стали единым переживанием. Это был не сон, ведь он оставался полностью в сознании – хотя, возможно, в измененном состоянии сознания. Он словно смотрел на свое тело с галереи операционного театра, поднимаясь, приближаясь и удаляясь.
«Галлюцинация в моей голове, казалось, свободно перемещается по комнате. Только один источник света ровно освещал стол. Оливекруна наклонился вперед… лампочка у него на лбу светила внутрь моего черепа. Оливекруна уже отсосал желтоватую жидкость. Полушария моего мозжечка словно съежились и разошлись в стороны. Доктор прижигал поврежденные вены раскаленной докрасна электрической иглой. Ангиома [опухоль, образованная кровеносными сосудами] уже видна внутри кисты, чуть сбоку. Сама опухоль похожа на большой красный шар. В моем видении она была большая, как маленький кочан цветной капусты. Сморщенная поверхность образовывала некий узор, как резная камея… я даже жалел, что Оливекруна ее уничтожит».
Визуализация – или галлюцинация – Каринти продолжалась с мельчайшими подробностями. Он «видел», как мастерски Оливекруна удаляет опухоль, прикусив нижнюю губу – сначала от усердия, а потом от удовольствия, что главная часть операции завершена.
Не знаю, как назвать подобную интенсивную визуализацию, созданную и подкрепленную детальным знанием того, что происходит на самом деле. Сам Каринти использует слово «галлюцинация»; и призрачная точка зрения, взгляд сверху очень характерны для того, что называют «внетелесным опытом» (такой ВТО часто связан с околосмертным состоянием – сердечным приступом или приближением неминуемой катастрофы – и вызван височной эпилепсией или стимуляцией височных долей во время операции на мозге).
Так или иначе, Каринти, похоже, знал, что операция завершилась успешно, что опухоль удалена без повреждения мозга. Возможно, ему об этом сказал Оливекруна, а Каринти трансформировал слова хирурга в видение. После такого интенсивного и ободряющего переживания Каринти крепко заснул и проснулся уже в обычной больничной палате.
Итак, опухоль, оказавшуюся доброкачественной, удалили. Каринти полностью выздоровел, даже зрение вернулось, хотя врачи думали, что оно окончательно потеряно. Он снова мог читать и писать; охваченный огромным чувством облегчения и благодарности, он быстро написал «Путешествие вокруг собственного черепа» – и первый экземпляр немецкого издания отправил хирургу, который спас ему жизнь. Так же он поступил и с другой книгой, «Райский доклад», иной по стилю и подходу, а затем приступил к книге «Послание в бутылке». Полный сил и творческих идей, Каринти внезапно скончался в августе 1938 года. Ему был пятьдесят один год. Говорят, его настиг инсульт, когда он нагнулся завязать шнурок.







