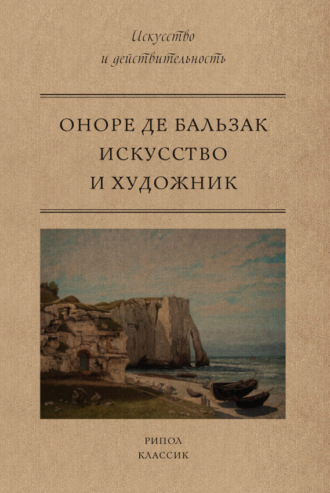
Оноре де Бальзак
Искусство и художник

Долгий путь к живому: об эстетике Оноре де Бальзака
Что мы вспоминаем при имени Бальзак? Страницу описания инкрустированного стола или выезда в экипаже, две страницы разговоров, потом еще кулинарная страница или пугающий разнообразием очерк обстановки, сменяющие друг друга картины, вводящие в действие гротескное и фантастическое не меньше чем у Гофмана. В годы творчества Бальзака интервальная развеска картин окончательно побеждает шпалерную: произведения живописи находятся на расстоянии друг от друга, разряженные размышлением, а не занимают всю плоскость стены в упорстве необходимого переживания. Такова лучшая метафора романов Бальзака: они проводят нас мимо возможных состояний мира, чтобы в промежутках чувственных предвестий выявить единственно необходимое состояние нашей психической природы, очерчивая саму его необходимость.
Мы со школы знаем: «Бальзак – реалист». Карл Маркс действительно находил в романах Бальзака блестящие очерки настоящей экономической жизни: наиболее проницательные объяснения того, как работает частный капитал. Экономическую теорию не построишь без статистических таблиц, но не завершишь и без рассмотрения хозяйства, которое вдруг перестает экономить и пускается в сделки. Под «реализмом» тогда понимается исследование тех реакций на обстоятельства, которые чем более неожиданны, тем более типичны оказываются для этой общественной среды: разоблачающая себя действительность показывает неприкрытость своих типов, постыдность господствующих в ней людских характеров, – только чтобы мы увидели чудо того, как она всё же сбылась.
Учителя Бальзака, мнениям которых он был верен до самой смерти, были как нельзя далеки от расхожего материализма. Виктор Кузен, чьи лекции слушал молодой Бальзак, будущий министр просвещения в правительстве Гизо и тайный отец дочери той самой прославленной Луизы Коле, которая была поэтом и роковой Музой Флобера и многих еще, называл свое учение сначала «эклектизмом», а после «спиритуализмом». Эклектик, «отбирающий лучшее» – философ, который обогащает «здравый смысл» англо-шотландского Просвещения моментами других учений, прежде всего, неоплатонизма. Кузену казалось, что здравый смысл слишком уравнивает всех людей: получается, что суждение подлеца рано или поздно начнет претендовать на ту же здравость, что суждение честного человека: поэтому интеллектуальный аристократизм неоплатонизма или даже пафос Спинозы и Лейбница поможет отделить правых и неправых, – просто мысль войдет во вкус такого отделения. Но потом Кузена испугал скрывший себя за эклектизмом антидемократизм, и он перешел к спиритуализму: учению о том, что раз законы природы не материальны, то они духовны, не менее чем духовна мысль, идея или идеал. Материалист сказал бы, что раз природа материальна, то и ее законы не вырываются выше ее самой, – но для спиритуалиста исключительность мира, уникальность мироздания так и должна была исторгать из себя еще более уникальные законы, нами созерцаемые. От Кузена Бальзак унаследовал панорамность взгляда, умение сразу перейти из гостиной или модной лавки к шепоту общества или интригам министерств – ведь такое удержание внимания сразу на многих вещах прямо следует из их исключительности: если ситуации сошлись уникальным созвездием, то тем более должна блеснуть наша мысль.
Другие учителя Бальзака были заочными: Луи Клод де Сен-Мартен и Эммануил Сведенборг, два крупнейших мистика XVIII века. Сен-Мартен был спиритуалистом, но в ином смысле, чем позднее Кузен: он проповедовал духовное революционное христианство, был невероятно влиятельным в России, его книгами зачитывались придворные и архиереи, будущие декабристы и будущие судьи над декабристами, отрекшиеся от прежних убеждений. Главная идея Сен-Мартена напоминает гностицизм первых веков христианства: Бог из себя производит духовные реальности мироздания, которые рано или поздно обретают вновь полноту в Боге, возвращая падших людей к необходимому всеединству. Но гностики презирали материю как помеху духовной жизни, а Сен-Мартен, напротив, считал материю одним из проявлений Бога, причем являющим себя через человека: Бог сначала отразился молнией под названием «человеческая душа», а человеческая душа отразилась природой с цветами, деревьями и ветрами, чтобы потом ум Христов вернул себе достояние, собирая, а не расточая. Некоторые смеялись над мартинистами, последователями этого философа, что это у его звездных людей в груди растут деревья и текут реки, причем еще прежде, чем появиться в привычном нам мире. Но для Сен-Мартена было важно, что привычка наступает поздно, что она – всегда искажение созерцания, а в настоящем вечном созерцании наша душа – бесконечное озарение божественного ума. У Сен-Мартена Бальзак выучился многому, в том числе вниманию к тому, как не только вещи превращаются в фетиши, которыми человек одержим: деньгами, властью или красотою, но и как сами привычки превращаются в фетиши. Говорил бы Бальзак только о злой власти денег, он был бы примитивным гностиком, для которого все материальное – дьявольское. Но Бальзак был высоким гностиком и поэтому исследовал не столько власть вещей или обстоятельств, сколько власть характера, мешающего созерцать очевидные вещи.
Сведенборг, шведский инженер, стал нарицательным именем неудержимого мистика. Действительно, Сведенборг был создателем не просто собственного учения, но и собственной религии; причем религии пространства, сжавшегося до точки. Протестантская моральная интуиция, что никакие дела не спасут нас от ада, но только благоволение Бога, превратилась у Сведенборга в пространственную и зрительную интуицию, подкрепленную данными современной ему космологии. Земля – всего лишь точка в бескрайней Вселенной потому, что это ад, а ад – это мука боли, сведенная к мельчайшей частице. Вырваться из него к небу – не быстрое дело: сначала нужны восхождения в космос, на разные планеты, населенные духами; а уже потом, пообщавшись с духами, прочитав тем самым в этом импровизированном общении духовную библию, которая у них хранится, можно отправиться к Богу.
Чтобы перековать строгий протестантизм в пышную и сложную мистику, Сведенборг употреблял молот весьма скучной аллегории, проводил самые прямые связи, как в механической физике: боль-сжатие-капля, дух-постижение-чтение. Но такое аллегорическое мышление весьма пригодилось реалистической прозе Бальзака: можно было трактовать тоску, грусть или радость как состояния мира, и с другой стороны, оправдать чтение книг как важнейшую духовную деятельность. Сведенборгу общение с духами заменяло книги, а Бальзак в своих книгах становился духовидцем социальной жизни.
С книжным делом как раз связано и неудачное предпринимательство Бальзака. Он пытался быть полезен себе и другим, купив типографию, а потом, одержимый деловыми побуждениями, также и шрифтолитейню к ней. Он исходил из того, что если Сэмюэл Ричардсон веком раньше издавал свои многотомные романы для любознательных читателей и юных читательниц, которые встречались и несколькими поколениями позже (вспомним пушкинскую Татьяну), в собственной типографии и на этом разбогател, то и он сам поправит свои дела. Но Бальзак не учел, что Ричардсон-типограф был прежде всего газетчиком, а газеты в Англии всегда стоили дорого (вспомним также последующие жалобы Герцена на дороговизну печати «Колокола») и давали издателю несомненный доход. Во Франции, с ее постоянными покушениями на свободу печати, газетное дело если вдруг и развивалось, то по законам политики, а не экономики.
Кроме того, как издатель, Бальзак решил издавать классиков, Мольера и Лафонтена, положив начало всеобщему чтению классики. Можно сказать, Бальзак стал основоположником принципа «читайте классику» – то есть впервые в истории классику стали предназначать для чтения дома, а не в школе, где ее запоминают наизусть и комментируют ради совершенства стиля и речи. Сейчас нам, глядящим на свои полки, кажется, что «чтение классики» как облагораживающее домашнее занятие было всегда, но на самом деле оно было изобретено, как видите, сравнительно недавно, и принеся пользу поколениям читателей, не одарило ею создателя. Не умея ни рекламировать изданные книги, ни сопровождать их выход слухами, ни бороться за свою долю сотрясаемого новинками рынка, Бальзак прогорел и большую часть жизни пытался вылезти из долгов, не выходя из-за письменного стола до боли в ногах. Да, этот сын скупщика конфискованных имений, носивший даже имя Бальзака не по праву (его отец Бальсса исказил свою фамилию, чтобы стать похожим на славного классициста – тем самым поневоле создав это «читайте классику» чтением своего имени), умел работать как никто, хотя как мы помним, только женитьба на украинской помещице Эвелине Ганской, с которой Бальзак, как и с ее сыном Георгом Мнишеком, долго переписывался, позволила ему умереть не конченым банкротом.
Казалось бы, перо Бальзака было легким, это не Флоберово мученичество стиля. Но его литературное усилие было совсем другим: не усилие мастера, следящего, чтобы всё работало, а скорее, усилие каталогизатора, которому ничего не позволено забыть. Если бы не нелепые решения Бальзака в хозяйственных делах, можно было бы сказать, что у него ум министра, распорядителя, который еще и еще раз возвращается к отчетам по своему ведомству. Здесь нам надо правильно понимать название его проекта «Человеческая комедия». Обычно его трактуют только в соотнесении с произведением Данте: мол, Данте говорил о делах божественных, а Бальзак – о мире, в котором есть только люди, их страсти и заботы. Но если остановиться лишь на этом понимании, мы превратим великого Бальзака в третьеразрядного романтика, который сколь угодно благополучно может писать о «людях» и «страстях».
А Бальзак не был бы первой и важнейшей литературной любовью Достоевского, образцом для Диккенса, вдохновением для Фолкнера, будь он таким. На самом деле, как объясняет сам Бальзак в предисловии, со ссылкой на уже знакомых нам Сведенборга и Сен-Мартена и на натуралистов его времени, «Человеческая комедия» – исследование видового многообразия общества, а точнее, превращения этого манящего многообразия в реальность. «Человеческая комедия» стала для Бальзака не просто литературным проектом в согласии с контрактом, а родом критики, критики самого понятия «замысла».
После Бальзака нельзя говорить, что писатель просто воплощает замысел, который у него зародился из наблюдений, наоборот, писатель должен знать, что часто его замысел становится «химерой» в сравнении с тем, что возникает. Так что человеческая комедия – это комедия не в дантовском, а скорее в классицистском смысле: исследование того, как герои умеют запускать рычаги действия, не предусмотренные логикой сюжета, но необходимые для общего эффекта комизма и для состоятельности комедии как таковой.
Но к Данте мы тоже возвращаемся, хотя совсем с другой стороны, чем думали вначале: Данте полагал целью своих терцин практическую – спасение человечества, и Бальзак полагает целью практику, как герои становятся настолько самостоятельными, что уже не только «замысел», но и «жанр» не может устоять под их усилиями, как лаборатория не может не сообщить все свои открытия миру. Точнее, для Бальзака появляется один жанр – чтение, домашнее чтение, как в науке побеждает один жанр – лабораторная работа.
Именно такая невозможность жанра – предмет повествования в самой известной из новелл «Человеческой комедии», посвященной изобразительному искусству – «Неведомый шедевр». Опираясь на тонкие замечания в исследовании С. Н. Зенкина[1], мы можем сказать, что в этом произведении исследуется невозможность простодушно говорить о «живописном повествовании», «вдохновении», «творческой работе» и других вещах, какая-то из которых останется само собой разумеющейся даже для очень критического ума, удачно подвергшего критике все остальные понятия. Философ здравого смысла объяснит вдохновение как простое настроение на подъеме, но сохранит представление о вымысле, или, наоборот, объяснит его как конечный набор ассоциаций, но при этом скажет, что ассоциации должны быть связаны очень живо и воодушевленно. Тогда как Бальзак не щадит никакой мифологии воодушевленности, которая почему-то должна за писателя все рассказать, а за художника объяснить смысл его образа, – но показывает тупики изобразительности, которые обследовать способен лишь писатель.
Но как бы подобное обследование несостоявшегося шедевра ни перекидывало мост между трудами внимательных естествоиспытателей и будущей полифонией Достоевского, где голос включается тогда, когда описание и самообоснование дает роковые сбои, эстетика Бальзака вовсе не сводится к такой критике успокоенного жанром созерцания. Для Бальзака всё же оставалось важным умение художников долго и благоговейно вынашивать идею; и его восторг перед старыми мастерами вовсе не противоречил реализму, показывающему недостаточность понятия «воплощение идеи» для объяснения искусства. Дело в том, что Бальзак различал разные образы в живописном искусстве, и если прославлял мадонн старых мастеров, то по той же причине, по которой Баратынский в стихотворении «Мадонна» описывает ту же картину Корреджо как икону, которая может прийти на помощь старушке и ее дочери.
Психоаналитик мог бы увидеть в этом благоговении перед наставляющей иконой след юношеского увлечения Бальзака сорокопятилетней мадам де Берни, в объятиях которой он познал чувство, но считал, что через это он и получает наставления, и мадам де Берни для него возлюбленная, мать и друг. Но сколь бы богатым ни оказывался материал для психоанализа, прибережем его для другой эпохи и не будем забираться сразу на кушетку Фрейда и Мари Бонапарт. Нам пока существенно, что для Бальзака некоторые старые мастера – вполне иконописцы, которые в своем благоговении избегают чрезмерных эффектов и тем самым позволяют и другим художникам работать рядом с собой.
Именно таким желанием иметь рядом спутников, в лице художников прошлого, объясняется и консерватизм Бальзака: он считал, что демократизм и поспешность приводят к тому, что все начинают задевать друг друга и нуждаться друг в друге, вместо того, чтобы просто гостить в мире чужих доброжелательных мыслей. Когда неожиданно для многих современников Бальзак предпочитал простодушного Фенимора Купера философичному Вальтеру Скотту, он так и говорил, что у Скотта все толпятся как в светском собрании, где обмен остротами не отличишь от обмена мыслями, тогда как Купер может поразить воображение так, что мы верим в то, что и мы тоже умеем поражаться и поражать. Учитывая, что задушевным собеседником Купера был Сэмюэл Морзе, которого тогда знали не как изобретателя точки-тире, а как выдающегося портретиста, вывод Бальзака делается оправдан: он просто предпочитал портретистов баталистам. По его мнению, Скотт не знал меры в изображении сцен, не понимая, что литература – не театр, чтобы разыгрывать без перебою военные и мирные интерлюдии, тогда как Купер умеет так увлечься повествованием, что забывает его режиссировать – и в этом его сила. Поистине, как и для Пушкина, для Бальзака поэзия должна быть глуповата.
Бальзак, разумеется, всегда подробно обсуждает отношения между живописцем и публикой. Разделение между ними – вовсе не зияние между профессионализмом и дилетантизмом, как это было у других критиков. Толпа не сразу воспринимает мастера, потому что она смотрит оценивающим взглядом, она ни с чем не обращается к художнику и не способна разгадать его мысль, просто потому что разучилась что-либо разгадывать. Конечно, толпа может превратиться в самую достойную аудиторию хотя бы из-за того, что нет людей, не любящих загадки и разгадки, но слишком часто в толпе тон начинают задавать насмешники – невежливо затыкать уши от их скверных слов, и они поэтому чувствуют себя так самоуверенно.
Художник для Бальзака – священник особой эстетической религии, исходящей не из спасения человечества, а из его чести и достоинства. Для нас слова про «совесть эпохи» после Льва Толстого – уже клише, причем лишенное прямого смысла; тогда как во времена Бальзака такое рассуждение обладало неодолимой новизной. Художник потому верит в себя, что в нем общество вспоминает о своих задачах, – о том, сколько нерешенного вокруг и сколько решительности потребуется для исправления существующего прискорбного положения, – а художник своим гневом напоминает только об этом.
Как критик расхожих представлений о театральности, Бальзак пересматривает привычные суждения об «эффектах». Раньше этим словом называлось логическое следствие; Бальзак же впервые употребляет термин в значении, к которому восходят нынешние «эффектности» и «спецэффекты». Будучи весьма консервативен по своим вкусам, Бальзак невольно прославляет эффект как единственную возможность оглядеться, остановиться. Представим, например, комнату. Если все нам в ней знакомо и ничего не удивляет, то ничто нас не остановит, и наш характер даже останется неочевиден.
Но если в комнате вдруг паркет начинает мельтешить, тень выглядит цветной, а ткань вспыхивает, то мы видим невольно остановившегося героя и понимаем, когда и как срабатывают характеры. Как говорил Бальзак в предисловии к роману «Лилия долин», душа издает благоухание окрасивших ее чувств. По сути, Бальзак продолжает действовать как естествоиспытатель в лаборатории, разглядывающий, как препарат реагирует на ту или иную сумму воздействий, стараясь исключить все незаметные посторонние воздействия. Раньше в литературе все постороннее исключал стиль, теперь все постороннее исключает эффект. Высокое косноязычие Достоевского или Фолкнера поэтому не состоялось бы без Бальзака.
Итак, искусство для Бальзака – это и подробность бытия, позволяющая другим подробностям не слишком проявлять свой характер, и радость для бытия, разрешающая ему не слишком пленяться собственными эффектами.
Как часто бывает, точнее всего о писателях говорят поэты. Как обозначил Пастернак жизненную стратегию Бальзака:
Зачем же было брать в кредит
Париж с его толпой и биржей,
И поле, и в тени ракит
Непринужденность сельских пиршеств?
Выплачивая долги, Бальзак должен был «взять в кредит» весь Париж как предмет изображения, но банк под названием «Реальность» выдает только пакетные кредиты – взяв труд, нельзя не взять отдых. Раньше можно было делить литературу на жанры, теперь кредит на них не разобьешь, разве что выделишь жанр непринужденности, который и есть жанр «Человеческой комедии». Трудолюбивый Бальзак Пастернака, до утра сидящий над рукописью, внимательный священник слова, ткущий заупокойную мессу Парижу – изжившему весь свой прежний образ жизни – он же Бальзак, мастерящий бессмертие:
Жара покрыла лошадей
И щелканье бичей глазурью
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.
Перед нами уже не жара, которая грозит мухами, пусть даже бичи не только подстегивают коней, но и гонят с них мух. Это жара, покрывающая глазурью печальной поэзии наши усилия, жара, встряхивающая привычный ход дел, иначе говоря, та самая дрожь старого мира, с которой он встречает неотменимую новизну самих вещей.
В основу данного издания положена книга[2], которую составил Владимир Романович Гриб (1908–1940), сын сельского фельдшера, комсомольский журналист, ставший затем серьезным ученым. По воспоминаниям учеников, в частности, знаменитой потом переводчицы Лилианы Лунгиной, вихрастый даже в своей прилизанности профессор Гриб во время лекций сидел на столе, беспрерывно курил, листая перед студентами альбомы с репродукциями западной живописи, порой смеялся и чуть не плакал, но тяжело заболел – известия о голодоморе на родине подкосили его.
Гриб обратил на себя внимание Дьердя Лукача, работавшего тогда в Москве; вероятнее всего, ему и обязаны были все научные интересы молодого исследователя. Лукач, творческий марксист, типичный человек дружеского круга, умевший сохранять дружбу на любой чужбине, в свое время разработал теорию романа как единственной формы, побуждающей общество к действию до того, как марксизм подвергнет критике ложные идеологии. Бальзак тогда оказывался по-на стоящему центральным писателем XIX века, творцом наиболее универсальной романной формы, освободившим ее и от речевых условностей, и от коммерческих предрассудков. Поэтому отдадим должное переводчикам этой книги, которые поняли в Бальзаке главное – освобождение не только героев от обыденных фантазий, но и самого автора от самых существенных иллюзий, в простой способности побыть с произведениями наедине.
Александр Марков,Профессор РГГУ и ВлГУ, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова17 апреля 2018 г.


