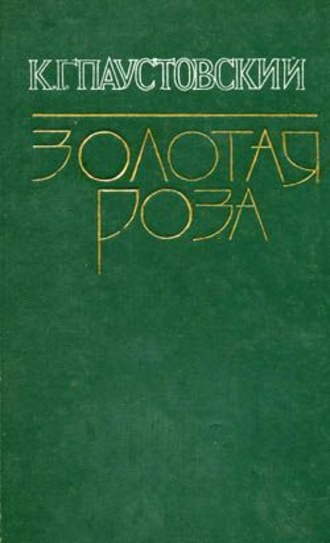
Константин Паустовский
Северная повесть
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.
Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды». Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.
Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.
Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».
Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера – неразговорчивые и честные люди.
Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся частях и слышали шум ветра в толстых реях.
К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.
Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.
Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.
Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.
Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», – говорил он хвастливо.
Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шам-панского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей.
О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:
Поля сражения для труса безопасны,
Он, славу бранную переменив на ром,
Громит врага за ломберным столом
Отменно и всечасно.
Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.
Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по нескольку часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.
Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал заикаясь:
– Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.
Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.
Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу – это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».
Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.
Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.
В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.
Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.
На допросе Бестужев сказал:
– Честь свою я почитаю выше присяги.
Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк.
Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив.
На маяке жил только сторож – старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.
– Ты не бранись, дед! – кричал Тихонов простуженным голосом. – Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?
Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.
– Эх, беда, беда! – говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.
Швед кивал головой.
– Понимаешь, значит? – спрашивал Тихонов. – Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу – об том один Господь Бог ведает да его высокородие полковник Киселев.
– О-о-о! – говорил швед.
– Вот то-то что «о-о-о»! – сердито отвечал Тихонов. – Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек – прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.
Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали прапорщику жена старика, седая старушка, и дочь Анна – темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах как мальчик.
Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и все вечера напролет читала.
– Бестужев… – прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине. – О-о-о! Бестужев!
– Верно, лед, – сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью. – Ничего не скажешь, наш полуротный – душа человек!
Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.
– Ну и морок, упаси Господи!
Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.
Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.
Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:
– Слуша-а-ай!
Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую Библию.
– Слуша-а-ай! – протяжно кричал Тихонов.
Ветер стихал и точно прислушивался. Трескался лед, снег шуршал о каменную стену сторож-ки и скрипел под сапогами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.
Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. Вдруг в наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду, солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислу-шался.
Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.
Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.
– Стой! Кто идет? – негромко окликнул Тихонов. Но никто не ответил. Тихонов всмот-релся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.
– Стой! – снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек спотк-нулся о прибрежные камни и упал.
Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.
Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.
– Кто такие? – спросил он сурово. – Отвечай – без утайки.
– Погоди, служивый, – сказал из темноты усталый голос. – Подсоби внести его в дом: человек без памяти.
Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.
– Офицер? – спросил он шепотом.
– Офицер.
– А ты кто?
– Я матрос.
– Есть приказание, – сказал вполголоса Тихонов, – задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?
– Замерзает человек! – сказал с отчаянием матрос. – Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.
Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.
Старый швед встал, захлопнул Библию и молча смотрел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, как обычно что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.
Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.
– Солдат? – спросил он и схватился рукой за грудь. – Куда мы вышли, служивый?
– Аландские острова, ваше благородие, – ответил Тихонов. – Разрешите спросить – откуда идете и по какой надобности?
Офицер усмехнулся.
– Идем мы, – ответил он медленно, – из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?
– Так точно, понял, ваше благородие.
– Что же ты думаешь делать?
Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.
– Ну? – спросил офицер.
– Ваше благородие, – умоляюще сказал Тихонов, – здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдете.
– Что вам известно?
– Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.
Тихонов помолчал, помялся и спросил:
– Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?
– Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.
Тихонов сел на корточки около печки и задумался.
– Эх, беда, беда! – сказал он, ворочая в печке дрова. – Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?
– Свободно, – ответил матрос. – Их в Неве сколько утопили, московцев, – не счесть!
– Слушай, солдат… – сказал офицер.
Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.
– Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Николай – тиран. Он слезами затопит Россию; засечет ее насмерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?
– Понял, ваше благородие, – глухо сказал Тихонов. – Что ни делай, а правду в кандалы не забьешь.
Офицер встал, запахнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взялся дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:
– Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.
– Поесть бы вам надо, Николай Иваныч, – сказал матрос. – Лица на вас нету.
Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.
Тихонов вскочил.
– Стой, ваше благородие! – закричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.
Тот быстро обернулся. Матрос схватил Тихонова за руки.
– Пусти! – крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.
Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.
– Возьми, ваше благородие, – сказал он, задыхаясь, и сунул хлеб и сало офицеру. – Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.
Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.
– Что ты, что ты! – растерянно сказал офицер и начал подымать Тихонова. – Разве можно? Встань.
Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:
– Ну, прощай, служба!… Помни!
Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мял рукой небритую щеку.
Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал – очевидно, понял.
Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним – второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко:
– Часовой!
Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.
Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сенях за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.
– Ввести их! – крикнул Киселев солдатам.
Солдаты неловко ввели арестованных.
– Кто вы такой? – спросил Киселев офицера.
Офицер молчал.
Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и столкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.
– Кто вы такой? – повторил Киселев.
– Я сын своего несчастного отечества, – сказал офицер. – Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.
– Вы бунтовщик, сударь, – сказал ласково Мерк. – Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.
– Пусть будет так, – ответил офицер и усмехнулся.
Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.
– Скотина! – сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.
Тихонов моргал глазами.
– Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенов! Засечь, как собаку!
Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.
Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чистой комнате, устланной половиками из морской травы, к старухе хозяйке и к застенчивой тоненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:
Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну…
Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.
Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна – вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей, – скользила на лыжах через поле к сосновому лесу.
Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.
Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.
– Смотрите, – сказала она, – может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.
Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.
Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые переставшие смеяться глаза.
– Анна, – сказал Бестужев, – могли бы вы полюбить всей душой русского?
Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева.
– Да, – сказала она и закрыла глаза. – Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.
– Почему?
– Отец вас не любит.
Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную варежку и поцеловал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела ему в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.
На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря – так желты были его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.
Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и неспокоен. Подруга смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой – так улыбаются люди, наблюдая чужое счастье.
Обратно шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них – самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем, – стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.
Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А наутро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.
Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением ее отца, обязательно женится на Анне.
Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь.
Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.
Пили вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пили плохо уже давно – со времени первого известия о мятеже в Петербурге.
От ломберных столов подымалась меловая пыль и першило горло. Игроки понтировали молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.
Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было каменное. Офицеры переглянулись, и лишь кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шутки никому не приходили на ум.
Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:
– Анна, что случилось?
Девушка задыхалась.
– Павел, – сказала она, впервые называя Бестужева по имени, – только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?
– Успокойся, Анна, – сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце – предвестник безрассудных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя. – Пойдем, мы должны сговориться совместно, что делать.
Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелками и перекидывать карты.
– Господа, – сказал Бестужев, – час назад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.
Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:
– Ну, говори скорее, без предисловий!
Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот как бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!» За Киселевым появился Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мель-ком взглянув на Анну, стоявшую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:
– Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.
Бестужев вспыхнул.
– Это моя невеста, – сказал он глухо.
Анна стояла помертвевшая и спокойная.
Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку; все смотрели на возбужденного полкового командира.
– Господа офицеры! – Киселев театрально поднял руку. – Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгрунд мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробиравшийся по льду Ботнического залива в Швецию.
Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой навощенные половицы.
– Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник – матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа. – Киселев обвел глазами офицеров. Ему хотелось проверить впечатление, какое должны были произвести его слова.
Офицеры хмуро молчали.
– Имя свое этот цареубийца назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.
Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.
– Еще раз требую, – властно сказал Киселев, – чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?
– Я могу повторить лишь то, что сказал однажды, – ответил офицер. – Я сын моего несчастного отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.
Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул.
Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспамятства. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заскорузлых, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатилась по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.
Киселев снова взглянул на своих офицеров и насупился. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.
– Он ранен, – громко сказал Лобов. – Какое бессердечие!
– Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника? – спросил Киселев, как бы не расслышав слов Лобова.
Офицеры не отвечали.
– У господ офицеров, – промолвил язвительно Мерк, – от злоупотребления вином сильно повредилась память.
– Он ранен! – крикнул Лобов. – Вы разве не видите?
Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в побелевшие от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:
– Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов – человечность в отношении к пленным. Этот офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия – его не будет.
Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головою на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова – Это кто? – спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного. – Тотчас убрать эту девку!
– Идите, прошу вас, – тихо сказал арестованный Анне. – Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.
Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.
Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.
Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.
– Я требую… – кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.
– Я готов стреляться, когда вам будет угодно, – сказал Бестужев и вышел.
Киселев забыл, что ему, как полковому командиру, нельзя было драться со своим подчиненным.
На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.
Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.
…Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мариегамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слежавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед – его ломало ветром.
Ветер был теплый и тяжелый. Он стеснял дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.
Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури услышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.
– Анна, – сказал Бестужев, – вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.
Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.
Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее кромешным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так неистовы, что казалось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроется блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками.
В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптано. В прихожей крепко пахло табаком.
– Какие поздние у вас гости, – сказал Бестужев Анне.
– Это к отцу собрались старики.
Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.
– Отец просит вас зайти к нему по важному делу, – сказала она. – Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.
Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их – то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.
– Чем могу вам служить, господа? – спросил, смутившись, Бестужев.
– А мы, признаться, – ответил по-французски Пинер, – хотели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам полезны, сударь?
Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.
– Мы верим вам, сказал отец Анны, мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед.
Старик замолчал и пошевелил сухими губами.
– Еще два дня такого ветра, – добавил он, – и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.
– Ваши генералы, – сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами, – сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского военного корабля.
– Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом, – ответил шкипер с густой черной бородой. Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.
– За моей «Валькирией», – сказал шкипер в желтых сапогах, – не угнался бы даже самый легкий военный корабль. Но его, к счастью, нету.
– Друзья, – сказал Бестужев, – не будем медлить. Кто первый готов выйти в море?
– Готовы все, – промолвил Пинер, выколачивая трубку, – но мне легче всего это сделать. За мной меньше следят: я несу на корме флаг французского королевства.
– Пусть идет он, мы уступаем французу, – сказал самый старый шкипер, и все смолкли. – Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы – шведы, финны, французы; он – русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха… – старик усмехнулся, – что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи – никто даже не станет считать.







