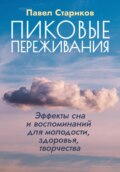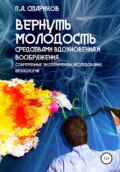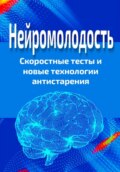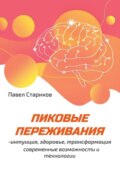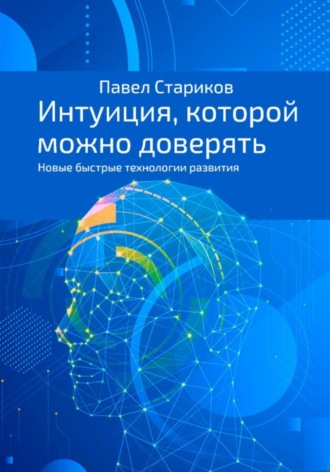
Павел Стариков
Интуиция, которой можно доверять. Новые быстрые технологии развития
Глава 2. Несколько страниц размышлений: интуиция, творчество и пиковые переживания
Наше сознание, восприятие, качество мышления в околосмертных переживаниях разительно отличаются от обычного «мирского». Более важно, в этом опыте люди обнаруживают, что новое качество сознания, открывшееся им, и есть их истинная сущность.
Почему в момент ОСО исчезают ограничения, выпуская на свободу способности расширенного разума? Зачем природа и общество не включают или наоборот отключают такие великолепные возможности осознания, понимания? На эти вопросы пытаются дать ответ различные теории и авторские концепции. Так, религиозные мифы рассказывают о грехопадении и последовавшей потере божественной благодати. Об этом повествуют библейские предания.
Один из классиков мифологии Мирча Элиаде обнаруживает разделение священного (наполненного изначальной творящей силой, энергией) и мирского (ограниченного, ущербного), как характерное для всех традиционных сообществ.
Трансперсональные психологи, начиная с Т. Лири, Р. Уилсона, Е.А. Торчинова…), видят причину в ограничениях, накладываемых на наше сознание обществом, сложившимся социальным порядком. Отдельное направление, развитое С. Грофом, связывает ограничения, наложенные на сознание, с травмой рождения, множеством ригидных психологических защит и комплексов.
Актуальные подходы к пониманию ограничений и перспектив развития человеческого сознания сегодня развиваются различными подходами: аналитической психологией, экзистенциальной философией, философией всеединства, гуманистической психологией и множеством других близких по смыслу направлений. Здесь ограничения, наложенные на человеческое мышление, восприятие, рассматриваются как постепенно преодолеваемые в ходе исторического прогресса. В этой трансформации центральную роль занимает рождение человека творящего, широкое распространение культуры творчества. В творчестве неуклонно раскрываются возможности расширенного сознания и Разума человека.
О важности такого понимания в свое время пророчествовал русский философ Николай Бердяев. В его работах суть происходящих и необходимых для мира изменений определяется как рождение этики творчества. Как писал Бердяев, творческий опыт есть нечто первичное, он – духовен в религиозном смысле слова. Творчество есть преодоление мира в евангельском смысле, преодоление иное, чем аскетизм, но равноценное ему. В творческом акте не только устраивается «мир сей», а скрыто, незримо созидается мир иной, подлинный космос. «Творчество по существу своему есть расковывание, разрывание цепей. В творческом экстазе побеждается тяжесть мира, сгорает грех и просвечивает иная, высшая природа»15.
Этот смысл творчества отразили уже первые космогонические мифы, присущие архаическим культурам. В них повествовалось о времени, когда первый порядок был сотворен усилиями Богов и Героев. Для таких культур характерно деление времени на две части: сакральное и профанное. Сакральное время – это время первотворений, первопредметов, перводействий, когда из Хаоса был сотворен Космос. Бесчисленные ритуалы повторяли акт Творения, перенося архаического человека в мифическую эпоху начала мира, наделяя его через космогонический ритуал героическими и божественными силами. Как писал Мирча Элиаде, через исполнение космогонического мифа, воспроизведение его через песнопения, танцы, символические рисунки человек «погружается в состояние первоначального рассвета; в него проникают гигантские силы, которые in illo tempore сделали возможным сотворение мира»16. Отождествление с творящими Космос силами дает омоложение, исцеление, возрождение.
Именно поэтому Карл Роджерс (один из видных представителей гуманистической психологии) определял творчество как «усиление себя»17, приписывая ему следующие свойства. Во-первых, каждый человек обладает потенцией к глубокому и конструктивному творчеству. Во-вторых, соприкосновение со своей творческой сущностью есть одновременно соприкосновение с универсумом, с универсальным источником энергии. Творчество – это интегративный процесс, который порождается всем нашим организмом, а не только интеллектом, он может приводить к созданию некоторого продукта, но может проявляться и в построении взаимоотношений между людьми, создает новые состояния сознания.
Доктор психологических наук Т.Н. Березина считает, что сегодня лишь в пике творчества, вдохновения (на короткое время) наше состояние приближается к естественному состоянию человека будущего. В такие моменты новые способности оказываются возможными для человека настоящего18.
Близкий по смыслу подход к пониманию творчества развивал Абрахам Маслоу, соединяя смыслы здоровья, психологической зрелости, самореализации. С точки зрения Маслоу, ошибкой является попытка мерить творчество категориями «продукции», бессознательно связывать творчество только с определенными общепризнанными сферами человеческой деятельности. Маслоу ставил знак тождества между творчеством и способностью интегрировать, соединять воедино разные, противоположные элементы. Великий художник образовывает единство из несочетающихся цветов и несовместимых форм. То же самое делает и великий теоретик, когда он соединяет непонятные и противоречивые факты, чтобы мы могли видеть, что они на самом деле являются частями одного целого. То же самое совершают великий государственный деятель, великий изобретатель, великий родитель. Все они – «интеграторы», способные соединять воедино разные и даже противоположные элементы. «В отлично приготовленном супе больше «творчества», чем в посредственно нарисованной картине, … в принципе, приготовление пищи, воспитание детей или поддержание порядка в квартире могут быть творчеством, в то время как поэзия – отнюдь не обязательно; она может ничего не создавать»19.
Интересно мнение Маслоу о взаимодействии между внутренней целостностью индивида и его способностью интегрировать то, что он делает в этом мире. Насколько творчество окажется синтезирующим, конструктивным, объединяющим, во многом зависит от внутренней интеграции личности. А.Н. Лук делает следующее замечание по данной теме. Творческой личности удается соединять в себе противоположные черты: серьезность и шутливость, приверженность традициям и «бунтарство», уверенность и скромность, готовность к риску и осторожность, деятельный характер и склонность к размышлению, фантазию и реалистичность20.В сущности, творческие способности – эпифеномен большей целостности и интегрированности. И прежде всего, должны быть интегрированы два разительно отличающихся друг от друга мира, две стратегии обработки информации (неосознаваемой, холистической, правополушарной и осознаваемой, левополушарной). Синтез этих стратегий – условие и результат продуктивного творчества.
Такие концепции плодотворного союза сознательного и бессознательного, вторичного и первичного процессов, левополушарной и правополушарной работы мозга были созданы К. Юнгом, З. Фрейдом, Г. Бейтсоном, Р. Сперри, другими авторами.
Установилось мнение, что словесно-логическое мышление (левое полушарие) выделяет из всего обилия реальных связей между предметами и явлениями лишь немногие определенные, упрощая их для совместного использования. Без этой функции левополушарного мышления были бы невозможны взаимопонимание, коллективный труд, человеческий прогресс. Примерами результата работы левого полушария человеческого мозга могут служить: четкая и понятная инструкция; методологически выверенная теория; текст хорошо написанного учебника по естественным наукам.
Но действительный мир значительно богаче, чем его отражение в нашем сознании. Для того чтобы отразить все многообразие связей между явлениями, нужен принципиально иной способ мышления. Этой задачей занято правополушарное мышление. Оно «схватывает» реальность во всем многообразии, богатстве, противоречивости. Прекрасные примеры такого способа обработки информации: сновидения, произведения искусства, отношения между субъектами, которые невозможно однозначно пересказать словами21.
Интересно, что среда, которая востребует, проявляет человеческую креативность, согласно исследованиям, должна обладать богатством возможностей. Творческие люди, в свою очередь, сами ищут и создают такие среды. Верно и обратное утверждение – способность легко переносить неопределенность, любовь к приключениям, открытость для опыта, сильный самоконтроль, эмоциональная стабильность и готовность к риску являются качествами, которые присущи творческим личностям. Одаренные лица способны выдерживать неловкое и двусмысленное положение значительно дольше людей нетворческого склада.
С другой стороны, сложность, неопределенность, скрытые от сознания порядки – те условия, попадая в которые человек, лишенный поддержки поликонтекстности правополушарных стратегий испытывает тревогу. Затруднения в восприятии кажущегося хаоса и страх неведомого блокируют творческий процесс и интуицию, провоцируют стереотипизацию, унификацию человеческого поведения.
Жизнь всегда вызывает тревогу, констатируют философы-экзистенционалисты, поскольку почти все важные вещи, которые случаются с людьми, имеют неопределенный, неоднозначный и неясный исход. Рутинизация человеческого действия – естественная реакция на сложность и непредсказуемость, которая и создает иллюзию психологической безопасности. Можно согласиться с Кьеркегором, назвавшим такую реакцию на жизнь «замолкнувшей индивидуальностью». Эрих Фромм определил это состояние как бегство от свободы, хотя можно было бы определить и как бегство от сложности, непредсказуемости мира, каким он кажется всё упрощающему коллективному левополушарному сознанию.
Страх неизвестности (тесно связан со страхом смерти) определяет границу, с пересечения которой начинается пробуждение способностей, творческости на основе интеграции сознания и бессознательного, левополушарного и правополушарного способов мышления, рождая особые состояния активности человека, сопряженные с подлинным ядром его личности – идеальные состояния человеческого бытия (различные авторы описали их как пиковые переживания, потоковые состояния, Кайрос, состояния гениальности, озарения, саморегуляции). В этих состояниях соединяются вместе принцип удовольствия и принцип реальности, Эрос и Логос, личность и архетип Самости, расширяя возможности Разума человека в целостном восприятии текущего момента со всеми присущими ему скрытыми возможностями, потенциями, смыслами.
Эмпирически такие состояния одним из первых стал изучать Абрахам Маслоу, назвав их пиковыми переживаниями. Согласно феноменологии А. Маслоу, пиковое переживание – «это эпизод или прорыв, в котором все силы личности чрезвычайно эффективно сливаются воедино, доставляя интенсивное удовольствие, когда человек обретает единство»22.
Сначала Маслоу, а затем другие авторы (М. Чиксентмихайи, Г. Бенсон, У. Проктор, Э. Ярлнес, В. Козлов и другие) выявили комплексную, холистическую природу этих особых состояний, их связь с самоактуализацией, распространенность в массовом опыте. Было установлено, что сам по себе пиковый опыт имеет универсальные характеристики, мало зависящие от социокультурной среды.
Подобно околосмертным (ОСО), пиковые переживания обладают мощной трансформирующей силой. Приобретенный в такие мгновения опыт выводит людей на все более высокие уровни целостности, раскрытия способностей и дарований.
Эмпирические исследования Маслоу выявили набор тесно связанных и одновременно проявляющих себя характеристик пиковых переживаний. Этот набор (здесь приводим его в сокращённом виде) включает следующие черты:
– Во время пикового переживания человек чувствует себя более целостным, чем в любое другое время, более целенаправленным, более гармоничным и собранным, организовавшим более эффективное и слаженное функционирование всех своих частей, более «синергичным».
– По мере того, как человек становится более целостным и более «чистым», увеличивается его способность слиться с миром.
– Во время пиковых переживаний индивид, как правило, чувствует себя на вершине своих сил, максимально используя все свои способности.
– Непринуждённость, лёгкость, грациозность. То, на что в другое время тратится множество сил и стараний, в пиковом переживании выполняется без всякого усилия, как бы само по себе.
– В это время люди выглядят спокойными, уверенными в себе и своей правоте, словно они точно знают, что они делают, и делают это без оглядки, искренне, не сомневаясь, не колеблясь. В это время есть только выстрелы в «яблочко». Великие спортсмены, художники, творцы, лидеры и руководители ведут себя именно так, когда функционируют наилучшим образом.
– Во время пиковых переживаний, больше, чем в любое другое время, человек чувствует себя ответственным, активным; он становится творческим центром как своей деятельности, так и своего восприятия.
– В это время человек наиболее свободен от страхов, опасений, сомнений, самокритики, всевозможных оков и тормозов.
– В такие моменты человек становится в большей степени творческим. Пиковые переживания можно обозначить и по-другому – как высшую точку уникальности, индивидуальности или неповторимости.
– Во время пиковых переживаний человек зачастую склонен изъясняться поэтическим, мифологическим или возвышенным языком.
– Пиковым переживаниям свойственно своеобразное бытийное веселье. Их неотъемлемыми свойствами являются лёгкость, непринуждённость, изящество, меткость, освобождение от комплексов и сомнений, умение смеяться вместе с кем-то.
– Пиковое переживание само является «интегратором», таким же, как красота, любовь и творчество. Именно в этом смысле оно является разрешателем проблем, противоречий.
– Во время пиковых переживаний, и как последействие, у людей возникает характерное чувство счастья, успеха, избранности. Как правило, после пикового переживания следует чувство благодарности. Очень часто чувство благодарности ведёт к безграничной любви ко всему сущему, к восприятию мира как исполненного красоты и добра, и зачастую к желанию сделать для мира что-то хорошее.
Пиковые переживания содержат в себе черты ОСО. Так, согласно опросам Маслоу, все пиковые переживания правильно понимать как «завершенные действия», или как «замыкание», о котором говорят гештальтпсихологи, или как полный оргазм Рейха, или как полную разрядку, катарсис, кульминацию, свершение или облегчение. Многие люди, испытавшие пиковые переживания говорили, что эти переживания чем-то напоминали им прекрасную смерть. Маслоу предполагал, что любое совершенство, завершенность или свершение является смертью в мифологическом, метафорическом или архаическом смысле. Совершенное деяние или достижение навсегда обретает сияние вечности. Сами описания пиковых переживаний близки тем, которые обнаруживаются в околосмертном опыте.
Где-то в 90-х годах двадцатого века социологи провели исследование, определяя иерархию ценностей людей, посредством многократного повторения вопроса «для чего Вам это надо?». Допустим, человеку нужно много денег – для чего? Авторы исследования обнаружили, что у части опрошенных, кто имеет серьезные проблемы в жизни, цепочка иерархии целей обрывается. Они не знают, для чего им необходимы желаемые материальные и социальные ценности.
Психологи К. Андреас и Т. Андреас проследили цепочку целей до конца. Они своим специально сконструированным вопросом выводили людей из плоскости конкретных ценностей к ценностям бытия, ощущений, переживаний: «И что ты хочешь ощущать, имея это?» – спрашивали они. То есть переводили поиск смысла на язык состояний. Это разные языки. Язык «иметь» и язык «быть», по Эриху Фромму. Язык бытия – это язык состояний и переживаний. При помощи такого вопроса иерархия жизненных целей восстанавливалась.
Обнаружились интересные результаты. Финальной точкой, предельным желанием людей выступила определенная группа состояний и переживаний, которые были названы сущностными.
Самое удивительное, что человек может без особых усилий «добраться» до такой ключевой бытийственной ценности и пережить ее. Если последовательно задавать вопрос «И что ты хочешь ощущать, имея это?», то можно действительно приблизиться к основным сущностным состояниям, переживаниям универсальной природы. Они самодостаточны, становятся новым центром организации всей жизни человека, позволяют реорганизовать проблемные состояния, вернуть гармонию целостности. Андреас обнаружили, что таких сущностных состояний всего пять:
– существование (это состояние можно передать словами «присутствие, «полнота», «целостность», полное вовлечение и растворение в том, что люди делают);
– внутреннее спокойствие (умиротворенность);
– любовь (не страсть, а именно глубокое чувство);
– одобрение (чувство существования чего-то хорошего в вас на очень глубоком уровне; глубокое чувство значимости, которое возникает из нас истинных);
– целостность («единство», «духовная согласованность»)23.
Найденное Андреас поле сущностных состояний соотносится с пиковыми переживаниями и ОСО. В наших исследованиях получен ряд доказательств, что пиковые переживания и сущностные состояния представляют собой единый взаимосвязанный комплекс24. Начатая Андреас работа продолжает развиваться усилиями многих психотерапевтов.
В работе с пиковыми переживаниями, сущностными состояниями мы встречаемся с другой, нелинейной, неповседневной логикой человеческого развития, возможностью чуда, чудесного преображения, когда соприкосновение с идеальными состояниями человеческого бытия благотворно и целительно.
Исследования различных авторов выявили множество подходов, как взаимодействовать с идеальными состояниями бытия (пиковыми переживаниями, сущностными состояниями, состояниями озарения, вдохновением…), как обретать этот важный опыт. Соприкосновение с идеальными состояниями позволяет достигать новых вершин, раскрывая способности и дарования, настраивает организм на здоровье, и подобно околосмертному опыту, пробуждает интуицию.
Глава 3. Восприятие и интуиция
В своей менее выраженной и более часто встречающейся форме пиковые переживания можно назвать вдохновением. Состояние вдохновения дает позитивные эмоции, позволяет получать и плодотворные результаты. В состоянии вдохновения более целостно воспринимается мир, более глубоко и проникновенно, вовлекая интуицию. Например, один из санкт-петербургских психологов установил, что даже простое прослушивание стихов, переключение на поэтическое восприятие мира усиливает провидческие способности. Оказывается, когда люди читают стихи, у них как будто что-то пробуждается, очищаются какие-то важные каналы, связывающие душу человека со всем миром.
На сегодняшний момент все в большей степени развеиваются сомнения в том, что искусство, талант, вдохновение, интуиция, успешность в современном мире – это вещи, взаимодополняющие друг друга. Ведь искусство может служить чрезвычайно эффективным настройщиком, учителем человеческой души. Оно обучает ее самому главному – состоянию вдохновения. Это происходит и в те моменты, когда человек слушает по-настоящему гениальную, талантливую музыку, когда созерцает гениальные картины, на создание которых было потрачено много усилий, которые сами создавались в состоянии вдохновения, какого-то пика, взлета человеческого духа, победы, совершенства, и когда настраивается на восприятие любых проявлений человеческого мастерства. Всё это помогает взлететь, внутри себя прожить особые состояния.
Отчасти дело здесь может быть в том, что человек способен развиваться, подражая другим. Сегодня эта концепция получила дополнительное подтверждение в ходе изучения так называемых зеркальных нейронов. В мозге активируются те же самые клетки, как если бы человек сам выполнял те действия, за которыми он наблюдает. Однако сомнительно, что все можно свести к процессам прямого подражания. Сейчас очевидно, что людям доступны глубокие уровни эмпатии, контакта, проникновения. Когда человек видит, слушает, воспринимает мир особым образом, а обычно люди отучены от этого типа восприятия, тогда пробуждается вдохновение и включаются эмпатия, интуиция. Произведения искусства – парадные двери, порталы, ведущие в мир возможностей, раскрывающие потенциал человека, все его способности.
Среди ученых, кто всерьез одним из первых стал изучать эту роль искусства, можно отметить Карла Юнга. Благодаря его трудам язык искусства стал восприниматься как лекарство, необходимое для души современного человека, как язык целостности, язык важнейшей информации, которая должна восприниматься как руководство. Здесь мы не будем заострять внимание на сложных понятиях, введенных аналитической психологией Юнга: индивидуация, архетипы, коллективное бессознательное, символы, Самость. Но в целом, главное – когда мы настраиваемся на восприятие красоты, переживая, ощущая ее, идет процесс развития всей нашей целостности, индивидуальности, сопричастности к миру. И раскрываются крылья вдохновения, открываются каналы интуитивного знания.
Почему? Прежде всего, давайте обратим внимание на существенные различия между так называемыми первичными и вторичными процессами. Это различение было сделано еще Зигмундом Фрейдом и остается как значимое для современных исследователей. Вторичные процессы – то, что человек осознает, планирует, контролирует. Это некая упрощенная версия реальности, «карты мира», по которым обычно живут люди. Вторичные процессы ограничены самим типом социальной коммуникации, требующей однозначной интерпретации знаков.
Чтобы понять ограничения вторичных процессов, можно привести в пример сновидения. Смысл сновидений с трудом поддается нашему пониманию. С точки зрения сознания, в мире сновидений все становится неоднозначным, запутанным, нерациональным. Если и есть в этом мире сновидческих грез какой-нибудь смысл, то воспринимается он только как отдаленные намеки, ассоциации, аналогии, скрытые метафоры, смешения. Зачем такая игра человеку, науке, стремящейся к ясности и очевидности?
Как уже говорилось, первым ввел понятие первичных процессов Зигмунд Фрейд, но он считал их более примитивными по сравнению с сознанием. Действительно, на языке первичных процессов говорят симптомы, болезни, иррациональные страхи.
Для Карла Юнга первичные процессы стали не только симптомами и аффектами бессознательного, но интегрирующим в целостность языком искусства, музыки, поэзии, живописи. Символы первичных процессов выражают то, что выходит за рамки ограниченного круга восприятий, позволяют передать невыразимую простыми знаковыми средствами мудрость целого. Можно сказать, что в первичных процессах заключается тайна интуиции, творческих озарений, способ ведания самой жизни в ее наполненности бытием.
Системный аналитик Грегори Бейтсон, отмечал, что «простая целенаправленная рациональность, не поддержанная такими феноменами, как искусство, религия, сновидения и т. п., неизбежно патогенна и разрушает жизнь. Ее вирулентность возникает главным образом из того обстоятельства, что жизнь зависит от взаимосвязанных петель обуславливания, в то время как сознание может видеть только дуги таких петель, настолько короткие, насколько этого требует человеческая цель»25.
Сознание, с точки зрения Бейтсона, которое не имеет поддержки бессознательного или первичного процесса, всегда должно тяготеть к ненависти, и не только потому, что уничтожить «того парня» весьма здравая мысль, но и по более глубоким причинам. Видя только дуги петель, индивидуум постоянно удивляется и неизбежно озлобляется, когда его тупоумные деяния возвращаются к нему как бедствия.
У сердца, или бессознательного, есть собственные рассуждения, о которых рассудок не имеет ни малейшего понятия. Эти алгоритмы сердца, с точки зрения Бейтсона, закодированы и организованы способом, тотально отличным от алгоритмов языка, такой доступ открывается, например, в сновидениях, искусстве, религии.
Искусство учит воспринимать мир по-настоящему, ближе к реальности первичных процессов, ближе к реальности мира. То есть чувствовать то, что обычно скрывается за ограничениями знаков и стереотипов. Искусство учит существовать на границе первичных и вторичных процессов, синтезируя их в непостижимую целостность.
Но бесполезно подходить к произведениям искусства с обычным, мирским способом восприятия. Этот обыденный способ видения мира, как его назвал Артур Дейкман – «объектный режим», не позволяет почувствовать целостность и сложность, скрытую гармонию связей и отношений.
Такое упрощенное, можно сказать, стереотипное видение мира функционально в том плане, что оно экономит ресурсы восприятия, делает мир понятным и социально согласованным. В то же время оно как бы велит нам не смотреть глубоко и проникновенно, ничего не знать лишнего о важных вещах, имеющих сложную природу. В усиленном виде стереотипное восприятие – психология городского жителя, который перегружен информационными сигналами. К сожалению, из-за этой информационной перегруженности (стереотипизация мира – одна из форм психологической защиты) мы отвыкаем смотреть глубоко, устанавливать контакт, прислушиваться к интуиции.
Представьте себе, что вы находитесь в картинной галерее. Отстояли очередь, например, в Эрмитаж, зашли в этот музей, и теперь нужно быстро просмотреть как можно больше экспозиций. В конце концов, такое времяпровождение может закончиться головной болью. Многие психологически устанут, и их эстетическое начало не получит подходящей ему «пищи», «божественной сомы» вдохновения.
А было бы более полезно задержаться возле заинтересовавшей вас картины. Потому что когда человек внимает, не торопясь и спокойно ожидая, тогда он может выйти за упрощенные формы поверхностного схематичного восприятия. Перед созерцающим вдруг открывается нечто более глубокое, то непередаваемое словами, простыми знаковыми средствами, что можно назвать психологической атмосферой, энергией, какое-то живое и целостное восприятие мира, когда мир видимой реальности наполняется незримыми формами и связями. Отчетливо начинают ощущаться общее настроение, «подводные» течения энергии, цвета, формы. И чем дольше вы смотрите, тем больше открывается вам этой глубины и целостности.
Талантливые художники передают через специальные изобразительные средства свои необычные способы восприятия, как бы помогая войти в них, и в этом заключается особая магия искусства – разрывать сковывающую силу стереотипов, заново обновляя восприятие, подобно мифическим героям Джозефа Кэмпбелла, возвращая застывающим формам ума гибкость и многозначность первичных процессов.
К сожалению, наша современная индустрия развлечений, да и образовательная культура приучают людей скользить по поверхности. Быстрее, больше поглотить материала, информации, знаний. Непонятно только, для чего нужно такое количество информации, нагромождений фактов, не синтезированных вдохновением. И психика современного человека защищается от такого хаоса и переизбытка информации.
В то же время есть другая возможность больше видеть, слышать, предчувствовать, но для этого следует уметь остановиться и настроиться на глубокий контакт и в таком контакте, как говорил Уильям Блэйк, увидеть вечность и бесконечность в одном мгновении.
Эта торжествующая сила восприятия незримо присутствует практически в каждой талантливой стихотворной строчке, музыке, живописи, танцевальном движении. Смысл такого глубокого проникновенного контакта пытался понять и передать Константин Бальмонт – русский поэт Серебряного века:
«Я откроюсь тебе в неожиданный миг,
И никто не узнает об этом,
Но в душе у тебя загорится родник,
Озаренный негаснущим светом.
Я откроюсь тебе в неожиданный миг…»
Современная культура – во многом массовая культура, уводящая от глубины к шуму повседневности, эрзац продуктов, как писал Бодрияр, культура соблазна, гиперреальности, соборов потребления и неизбежного разочарования. Таковы мы, современные люди, пытающиеся восстановить контакт с чем-то очень важным, энергетийным, раскрывающим крылья способностей и талантов.
Совершенно другой тип восприятия мира характерен для состояния вдохновения. Я хочу обратить ваше внимание на современные исследования малоизвестной, таинственной связи времени и восприятия. Когда мы воспринимаем мир как необычный, свежим взглядом, как дети, которые впервые смотрят на что-то, течение времени для нас замедляется. Наоборот, привычность и стереотипность как бы сжимают психологическое время. Это печально, но так с возрастом все больше сжимается «шагреневая кожа» психологического времени. Как показывают социологические опросы, все, начиная со студентов, чувствуют это. Большинство людей начинают замечать ускорение времени ближе к тридцати годам26.
Отметим пока, что когда исчезает новизна и свежесть восприятия, все кажется знакомым и привычным, тогда время психологическое течет очень быстро. И в результате человек не успевает ничего, что мог бы сделать.
А вот когда вы выходите за рамки обыденного, стереотипного восприятия, когда вы входите в эту глубину, тогда время начинает идти медленнее, его запасы у вас увеличиваются. И это вы можете обнаружить по простым феноменам. В незнакомой местности кажется сначала, что как будто времени стало больше. Столько событий происходит за небольшой промежуток. Потом потихонечку все исчезает куда-то. Новое становится привычным. Самое простое «злое волшебство», которое происходит с человеком.
Современный человек живет в очень сжатом, быстро несущемся времени. И это делает его неспособным улавливать какие-то тонкости, наслаждаться жизнью. И на самом деле ресурсы времени в стрессе и напряжении ограничены. Парадоксально, но вместо того, чтобы спешить, было бы лучше ввести себя в состояние созерцания, тогда времени на все – для мыслей, ощущений, чувств, обработки информации – станет как бы больше. Поэтому когда вы не спешите, находите время, чтобы остановиться и глубже воспринимать, вчувствоваться, установить контакт, вы получаете дополнительный «бонус» – ресурсы времени. Волшебство новизны и глубины восприятия.
На эффекты замедления времени в особых состояниях обращают внимание многие спортсмены, достигшие мастерства. Об этом времени говорят как о нахождении в «зоне»27. «Создается впечатление, что время необъяснимо замедляется, как будто все вокруг начинает двигаться в замедленном темпе. Кажется, что у меня сколько угодно времени, я могу наблюдать, как ресиверы бегут по своим маршрутам… Я точно знаю, как мощно и быстро движутся эти парни, но все их движения кажутся мне похожими на танец или замедленное кино». «Если ты бежишь сотку правильно… эти 10 секунд растягиваются в 60».