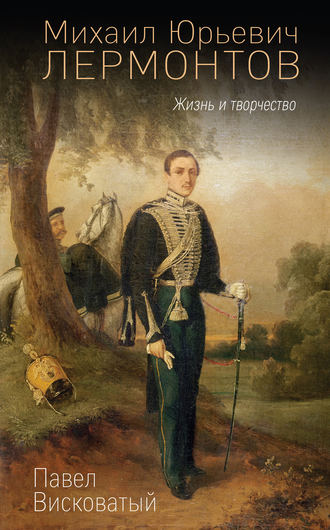
Павел Висковатый
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Часть I
Детство и первая юность
Глава I
Бабушка поэта Е. А. Арсеньева. – Отец и мать. – Рождение М. Ю. Лермонтова. – Семейная жизнь родителей. – Смерть матери и разлука с отцом. – Детские забавы. – Воспитатели и товарищи детства. – Поездки на Кавказ. – Первая любовь
Горячо любила Михаила Юрьевича Лермонтова воспитавшая его бабка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, и память о ней тесно связана с именем поэта. Она лелеяла его с колыбели, выходила больным ребенком, позаботилась дать ему блестящее и серьезное для того времени образование, сосредоточила на нем всю свою любовь и заботы. В преклонных летах, частью именно из-за этой беззаветной преданности к внуку, пользовалась она всеобщим уважением и не раз успевала отвращать своим заступничеством серьезную опасность, грозившую поэту. Когда его не стало, она выплакала по нему свои старые очи. Ослабевшие от слез веки падали на них, и, чтобы глядеть на опостылый мир, старушке приходилось поддерживать их пальцами.
По рассказам знавших ее в преклонных летах, Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими, решительными, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли ей общество и лиц, которым приходилось с ней сталкиваться. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и никогда никому не стеснялась высказывать то, что считала справедливым. Прямой, решительный характер ее в более молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма, что видно из ее отношения к мужу дочери – отцу нашего поэта. С годами, под бременем утрат и испытаний, эти черты сгладились – мягкость и теплота чувств осилили их, – хотя строгий и повелительный вид бабушки молодого Михаила Юрьевича доставил ей имя Марфы Посадницы среди молодежи, товарищей его по юнкерской школе. В обширном кругу ее родства и свойства именовали ее просто «бабушка».
Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, была дочь богатого помещика Алексея Емельяновича Столыпина, давшего многочисленному своему семейству отличное воспитание. Многие из членов этой семьи представляли собой людей с недюжинными характерами, самостоятельных и даровитых. Сперанский был с ними в самых приязненных отношениях, и они поддерживали дружбу с ним даже и во время его опалы, когда многие боялись иметь к нему какое-либо отношение[1].
Сам Алексей Емельянович был человек бывалый, упрочивший состояние свое винными откупами, учрежденными при Екатерине II. Собутыльник графа Алексея Орлова, Алексей Емельянович усвоил себе и повадки, и вкусы его. Он был охотник до кулачных боев и разных потех, но всему предпочитал театр, который в симбирской его вотчине был доведен до возможного совершенства и, перевозимый хлебосольным хозяином в Москву, возбуждал общее удивление. Актерами были крепостные люди, но появлялись на сцене порой и домочадцы, и гости.
Дочери Алексея Емельяновича, девицы крепкого сложения, рослые и решительные, повыходили замуж уже в почтенном возрасте. Елизавета Алексеевна, бабка Лермонтова, сочеталась браком с гвардии поручиком Михаилом Васильевичем Арсеньевым, который был моложе ее лет на восемь.
Арсеньев был членом большой семьи, владевшей селом Васильевское в Тульской губернии, Ефремовского уезда. Женившись, Михаил Васильевич переехал с женой в имение Тарханы, Пензенской губернии, Чембарского уезда. В Васильевском оставались жить родные сестры его, девицы Варвара и Марья Васильевны, вдовая Дарья Васильевна да четыре его брата. Бывая в Москве и перекочевывая из нее в Пензенскую губернию, Арсеньевы подолгу гостили у них в Васильевском. От брака этого была всего одна дочь – Марья Михайловна. Отец ее, по рассказам, умер неожиданно и при необыкновенных обстоятельствах.
Хотя старушка Арсеньева впоследствии охотно говорила о счастливом супружестве[2], но в действительности сравнительно молодой муж чувствовал себя, кажется, не вполне счастливым с властолюбивой женой. Он увлекся соседкой-помещицей, княгиней или даже княжной Манвой. Елизавета Алексеевна воспылала ревностью к своей счастливой сопернице и похитительнице ее прав. Между женой и мужем произошла бурная сцена. Елизавета Алексеевна решила, что ноги соперницы ее не будет в Тарханах. Между тем как раз к вечеру 1 января охотники до театральных представлений Арсеньевы готовили вечер с маскарадом, танцами и театральным представлением новой пьесы – шекспировского Гамлета в переводе Висковатова[3]. Гости начали съезжаться рано. Михаил Васильевич постоянно выбегал на крыльцо, прислушиваясь к знакомым бубенчикам экипажа возлюбленной им княжны. Полная негодования, Елизавета Алексеевна следила за своим мужем, с которым она уже несколько дней не перекидывалась словом. Впоследствии оказалось, что она предусмотрительно послала навстречу княжне доверенных людей с какой-то энергичной угрозой. Княжна не доехала до Тархан и вернулась обратно. Небольшая записка ее известила о случившемся Михаила Васильевича.
Что было в этой записке? Что вообще происходило между Арсеньевым и женой?.. Дело кончилось трагически. Пьеса разыгрывалась господами, некоторые роли исполнялись актерами из крепостных. Сам Арсеньев вышел в роли могильщика в V действии. Исполнив ее, Михаил Васильевич ушел в гардеробную, где ему и была передана записка княжны. Пришедшие затем гости нашли его отравившимся. В руках он судорожно сжимал полученное извещение[4].
Во время трагической смерти отца Марье Михайловне было лет пятнадцать. Мать страстно любила дочь свою, и, кажется, эта беззаветная привязанность вызвала охлаждение к мужу. Однако со смертью его проснулись воспоминания первых счастливых лет супружества, и Елизавета Алексеевна старалась устроить жизнь свою в прежних рамках. Как при муже, она каждый год проводила несколько месяцев в Москве, куда ездили из пензенского имения, посещая и останавливаясь на пути у родных и знакомых помещиков.
Возвращаясь однажды из Москвы, мать с дочерью заехали в Васильевское, к Арсеньевым, да и загостились у них. С Арсеньевыми находилась в большой дружбе семья Лермонтовых, жившая по соседству в имении своем Кроптовка. Она состояла из пяти сестер[5] и брата Юрия Петровича, который был воспитан в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, а потом служил в нем и вышел в отставку по болезни в 1811 году с чином капитана[6]. Таким образом была прервана довольно успешная карьера 24-летнего офицера. Объясняется отставка, кажется, необходимостью переехать в имение и заняться хозяйством, с которым сестры не могли справиться.
Красивый молодой человек с блестящими столичными приемами произвел на Марью Михайловну сильное впечатление. Женское население Кроптовки и Васильевского жарко принялось за дело, и, к радости или к неудовольствию Елизаветы Алексеевны, молодые люди были помолвлены, и Марья Михайловна приехала с матерью в Тарханы объявленной невестой.
Родня Арсеньевой, кажется, не очень сочувственно отнеслась к проектированному браку и недоброжелательно глядела на бедного капитана, принадлежавшего не к родовитому их кругу. Венчание происходило в Тарханах, с обычной торжественностью при большом съезде гостей. Вся дворня была одета в новые платья. Среди гостей находились сестра Юрия Петровича и мать его Анна Васильевна.
Хотя Юрий Петрович, как увидим ниже, и происходил от древней шотландской фамилии, рано переселившейся в Россию, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, средства оскудели, и сам Юрий Петрович, как и другие, вряд ли знал хорошо свою родословную. Это можно видеть из того, что сын его еще в 1834 году не имел точных сведений о роде своем и обращался к родственнику своему за гербовой печатью, чтобы вырезать герб на своей[7].
Выйдя замуж, Марья Михайловна не получила в приданое недвижимого, и за ней считалось всего 17 душ без земли, вывезенных покойным отцом из его тульской деревни. Зато мужу ее, Юрию Петровичу, предоставлено было управлять имениями матери, селом Тарханы и деревней Михайловская. Он и распоряжался этими имениями до самой смерти жены полным хозяином – «вошел в дом», по выражению старожилов. Молодые выехали из Тархан в Москву, когда состояние здоровья Марьи Михайловны этого потребовало. За ними последовала и Елизавета Алексеевна.
Лермонтовы поселились в доме генерала-майора Федора Николаевича Толя[8] около Красных ворот. Здесь у них со 2 на 3 октября родился сын. Крещен он был 11 октября и в честь деда Арсеньева наречен Михаилом[9]. И в этом тоже заметна настойчивость характера бабки Арсеньевой, потому что из рода в род Лермонтовы именовались то Петром, то Юрием. Поэт наш первый в длинном ряду предков получил нетрадиционное имя, и отец его Юрий Петрович согласился на это неохотно[10].
Малютка и мать его были окружены всевозможными заботами. Из Тархан уже вперед, до срока, прислали двух крестьянок с грудными младенцами. Врачи выбрали из них Лукерью Алексеевну в кормилицы к новорожденному. Она долго потом жила на хлебах в Тарханах, и Михаил Юрьевич уже взрослым не раз навещал ее там, справлялся о житье-бытье и привозил подарки[11]. Из Москвы Лермонтовы с бабушкой и грудным ребенком своим вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь иногда по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение[12].
Супружеская жизнь Лермонтовых не была особенно счастливой; скоро даже, кажется, произошел разрыв или, по крайней мере, сильные недоразумения между супругами. Что было причиной их, при существующих данных определить невозможно. Юрий Петрович охладел к жене. Может быть, как это случается, ревнивая любовь матери к дочке, при недоброжелательности к мужу ее, усугубила недоразумения между ними. Может быть, распущенность помещичьих нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича очутилась особа, занявшая место, на которое имела право только жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в их тульском имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в Тарханы, в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ей увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась отвлечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой сожалеть бедную Машу и осыпать упреками ее мужа. Елизавета Алексеевна чернила перед дочерью зятя своего, и взаимные отношения между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Петровича, поступившего в ополчение, не поправила их. Если сопоставить немногочисленные сведения о Юрии Петровиче, то это был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый, самодур, и эта вспыльчивость, при легко воспламенявшейся натуре, могла доводить его до суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместимым даже с условиями порядочности[13]. Следовавшие затем раскаяния и сожаления о случившемся не всегда были в состоянии искупить содеянное, но, конечно, могли возбуждать глубокое сожаление к Юрию Петровичу, а такое сожаление всегда близко к симпатии.
Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «bon vivant», как называет его воспитатель Лермонтова Зиновьев. Крепостной люд называл его «добрым, даже очень добрым барином». Все эти качества должны были быть весьма не по нутру Арсеньевой. Род Столыпиных отличался строгим выполнением принятых на себя обязанностей, рыцарским чувством долга и чрезвычайной выдержкой – черты, отличавшие потом друга и товарища Михаила Юрьевича Алексея Аркадьевича Столыпина, известного под именем «Монго», который в обществе и среди товарищей почитался образцом благородства и рыцарства. В Юрии Петровиче выдержки-то именно и не было. Старожилы рассказывают, как во время одной поездки с женой вспыливший Юрий Петрович поднял на нее руку.
Факт этого грубого обращения был последней каплей в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкой в Тарханах.
Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослой все еще выглядела хрупким, нервным созданием. Передряги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на ее организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугой, носившим за ней лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешеньем и помощью; помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена душой музыкальной. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою.
Наконец злая чахотка, давно стоявшая настороже, схватила слабую грудь молодой женщины. Пока она еще держалась на ногах, люди видели ее бродящей по комнатам господского дома, с заложенными назад руками. Трудно бывало ей напевать обычную песню над колыбелью Миши. Постучалась весна в дверь природы, а смерть – к Марье Михайловне, и она слегла. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать, и он прибыл с доктором накануне рокового дня. Спасти больную нельзя было. Она скончалась на другой день по приезду мужа. Ее схоронили возле отца, и на поставленном мраморном памятнике еще и теперь читается надпись:
ПОД КАМНЕМ СИМЪ ЛЕЖИТ ТЕЛО
МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ
ЛЕРМОНТОВОЙ,
УРОЖДЕННОЙ АРСЕНЬЕВОЙ,
скончавшейся 1817 года, февраля 24 дня, в субботу.
Житие ей было 21 годъ, 11 месяцевъ и 7 дней.
Что произошло между мужем и матерью покойной, неизвестно, но только Юрий Петрович по смерти жены оставался в Тарханах всего 9 дней и затем уехал к себе в Кроптовку.
Убитая горем, Елизавета Алексеевна приказала снести большой барский дом в Тарханах, свидетеля смерти ее мужа и любимой дочери, и воздвигла на его месте церковь во имя Марии Египетской. Рядом с церковью она построила небольшое деревянное здание с мезонином, где и поселилась с внуком своим. Этот дом в Тарханах уцелел и по сей день[14].
Через несколько времени после отъезда своего из Тархан Юрий Петрович потребовал к себе сына. 5 июня Сперанский пишет брату Арсеньевой Аркадию Алексеевичу Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Странный и, говорят, худой человек; таков, по крайней мере, должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление»[15]. Рассуждение, впрочем, немного странное – называть желание отца иметь при себе сына «оскорблением бабушки». Вообще отзыв Сперанского, очевидно, не знавшего лично Юрия Петровича, надо принимать осторожно. Факт, что Юрий Петрович, несмотря на свое раздражение против жены и тещи, оставляет сына у бабушки, скорее доказывает его мягкость. Предположить, что он не любил сына или оставлял его у других по равнодушию к нему, трудно. Зачем ему в таком случае было требовать сына к себе? Зачем сдаваться на просьбы и представления бабушки, решаясь наконец быть в разлуке с сыном еще только два года? Миша был тогда всего трех лет. Отец рассудил, что уход за ним под наблюдением любящей его богатой бабушки будет лучше, нежели у него, вдовца с весьма ограниченными средствами. Дальше мы увидим, что взаимные отношения отца и сына были задушевные и любящие. Со стороны чувства к своему ребенку упрекать Юрия Петровича, кажется, нельзя.
Глубоко подавленная смертью дочери, Елизавета Алексеевна перенесла на внука всю свою любовь и приязнь. Она видела в нем средоточие всего, что было отнято судьбой в лице ее мужа и потом дочери. Этот внук носил имя своего деда; умирающая дочь поручила ей беречь его детство. Кроме Миши, у нее никого не оставалось на свете. Она с ним старалась не расставаться; он спал в ее комнате, она наблюдала за каждым его шагом, страшилась малейшего нездоровья. Рожденный от слабой матери, ребенок был не из крепких. Если случалось ему занемогать, то в «деловой» дворовые девушки освобождались от работ и им наказывали молиться Богу об исцелении молодого барина.
Приставленная со дня рождения к Мише бонна немка Христиана Осиповна Ремер и теперь оставалась при нем неотлучно. Это была женщина строгих правил, религиозная. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближним, даже и к тем, которые по положению находились от него в крепостной зависимости. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христиана Осиповна, стыдила ребенка, заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтила эту женщину, для мальчика же ее влияние было благодетельно. Всеобщее баловство и любовь делали из него баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства, легко при недосмотре переходящий в детях в жестокость.
Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Все ходило кругом да около Миши. Все должны были ему угождать, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел!» – и ребенок делал ему посильное описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К Пасхе заготовлялись крашеные яйца в громадном количестве. Начиная со Светлого Воскресения, зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большой радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:
– Бабушка, я выиграл!
– Ну, слава богу, – отвечала Елизавета Алексеевна. – Бери корзинку яиц и играй еще.
«Уж так веселились, – рассказывают тархановские старушки, – так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила!
А летом опять свои удовольствия. На Троицу и Семик ходили в лес со всей дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было – страсть, на всех закуску готовили, всем угощение было».
Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму: «пол – стол» или «кошка – окошко», ему ужасно нравилось, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своею радостью.
Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нему и чертить мелом[16].
Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика: как сквозь сон, грезилась она ему; слышался милый ее голос. Потеряв мать на третьем году, он хотя смутно, но все-таки помнил ее. Замечено, что такие воспоминания могут западать в душу даже с двухлетнего возраста, выступая всю жизнь светлыми точками из причудливого мрака детских воспоминаний. В детстве звуки песни, петой ему матерью, всегда доводили Лермонтова до слез. Позднее он никак не мог вспомнить слов ее, но утверждал, что если бы услыхал эту песню, она произвела бы на него прежнее действие [т. I, стр. 113][17].
Альбом матери он всегда возил с собой и еще 11-летним мальчиком на Кавказе вносил в него свои рисунки. Неразлучен с ним был и дневник матери[18].
Окруженный заботами и ласками, мальчик рос баловнем среди женского элемента. Фантазия его рано была возбуждена. Если ему и не пришлось слышать русских народных сказок, о чем он так сожалел позднее, находя, что «в них больше поэзии, чем во всей французской словесности» [т. I, стр. 114], то все же голова ребенка полна была образов романтического мира.
Тогдашнее романтическое направление немецкой литературы уже давало себя знать, и немудрено, что его «мамушка», как он называл свою бонну-немку, немало передала ему рассказов, которые наполнили собой юную головку. [т. I, стр. 114]
Рано уже любил мальчик часами глядеть на луну, следить за разновидными облаками, воображать в них рыцарей в шлемах, окружающих чудесное светило. Представлялось оно ему волшебницей, плавно идущей в свой чудесный замок, сопровождаемой дружиной верных защитников от опасных врагов – великанов, карлов и безобразных драконов и чудищ.
Во втором отрывке из неоконченной повести, имеющем, как и почти все писанное Лермонтовым, автобиографическое значение, изображается развитие характера мальчика – Саши Арбенина. Уже само имя Арбенина, столь часто встречающееся в разнородных сочинениях Лермонтова и всегда являющееся как бы прототипом свойств самого автора, дает нам право видеть в главных чертах Саши рассказ, взятый из истории детского развития самого Михаила Юрьевича. Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. «Саше с ними было очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем присущая всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь – болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если бы он не получил от природы железного телосложения, то, верно, отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».
Для рано образовавшегося внутреннего, душевного мира поэта мальчик не находил выражения, и, как это всегда бывает в подобных случаях, сила фантазии и общения мысли устремилась на явления природы. Детская душа, как душа младенствующих народов, тесно примыкает к природе и, сама уходя в нее, в то же время привлекает ее к себе, олицетворяет, индивидуализирует. Поэтому-то в памяти особенно даровитых людей на всю жизнь сохраняются поразившие их фантазию картины природы. Только позднее ум начинает интересоваться человеком, и мы увидим, как Лермонтов, даже и в поэзии своей, долго сохраняет интерес к звездам, тучам, в особенности ко всем величественным, мрачным или приветным явлениям природы и через них знакомит нас с состоянием души своей.
Воображение мальчика Лермонтова рано наполняли видения во сне и наяву. Еще в 1830 году вспоминает он сон, который видел восьми лет и который сильно подействовал на его душу [т. I, стр. 114]. Вспоминает он, как в те же годы случилось ему однажды ехать куда-то в грозу и как перед ним быстро неслось по небу небольшое облако, «как бы оторванный клочок черного плаща», и долго в памяти поэта живет то грозное небо с клочком мрачной, словно бедой чреватой, тучи.
Как Саша Арбенин, Лермонтов перенес трудную и продолжительную болезнь. Он вообще был весьма золотушным ребенком, страдал «худосочием»[19], и этому-то, между прочим, приписывала бабушка оставшуюся на всю жизнь кривизну ног своего внука. Желание искоренить следы этой болезни и вообще поправить слабый организм Мишеля побудило ее взять его на кавказские воды[20].
Хотя Арсеньева и не ладила с своим зятем, но она не совершенно прекратила отношения с ним и его семьей. В 1825 году, когда бабушка опять повезла внука на кавказские воды, ее сопровождал Михаил Пожогин, женатый на родной тетке Михаила Юрьевича Авдотье Петровне Лермонтовой. Что Лермонтов ребенком бывал в имении отца, видно из приписки к стихотворению его «Гений», где он упоминает, что в 1827 году пребывал в ефремовской деревне.
Когда Михаил Юрьевич подрос и вступил в отроческий возраст, рассказывают старожилы села Тарханы, были ему набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и делал им Михаил Юрьевич учение, играл в воинские игры, в войну, в разбойников. Товарищами были ему также родственники, жившие по соседству с Тарханами, в имении Апалиха[21], принадлежавшем племяннице Арсеньевой Марии Акимовне Шан-Гирей. У нее были дети: дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях. Близость места жительства ежедневно сводила детей, учившихся у одних и тех же наставников. Поступив позднее в университетский пансион в Москве, Лермонтов еще долго остается в переписке с родной семьей и, говоря о занятиях своих, дает советы относительно занятий прежнего своего товарища и троюродного брата [т. V, стр. 373].
Желая создать для Мишеля вполне подходившую обстановку, было решено обучать его вместе со сверстниками, с которыми он делил бы тоже и часы досуга. Кроме Акима Шан-Гирея, в Тарханах года два воспитывались и двоюродные его братья со стороны отца: Николай и Михаил Пожогины-Отрошкевичи, два брата Юрьевых, временно князья Николай и Петр Максютовы и другие. Одно время в Тарханах жило десять мальчиков. Елизавета Алексеевна не щадила средств для воспитания внука. Оно обходилось ей до десяти тысяч рублей ассигнациями. На это-то она и указывала отцу, когда тот заводил речь относительно желания своего воспитывать сына при себе. Бедный человек, конечно, не был в состоянии сделать для Мишеля даже и части того, что делала бабушка.
Кроме обыкновенного курса наук Мишеля и сверстников обучали языкам французскому и немецкому, а из древних – латинскому и греческому. Последнему обучал грек из Кефалонии, бежавший в Россию во время смут, предшествовавших войне за освобождение Греции[22]. Но успехи Мишеля у этого ученого политического выходца были не особенно блестящи, и импровизированный ментор скоро перешел на чисто практическую деятельность. Он занялся выделкой шкур собак и этому искусству научил окрестных крестьян, до сей поры им занимающихся.
Своих сверстников Мишель любил делить на два лагеря. Происходили военные игры, воздвигались и брались крепости, совершались переходы. Порой устраивались танцы и даже домашние спектакли. Внимание воспитателей было обращено также и на развитие эстетического вкуса в питомце. Кажется, одной из любимых забав мальчика было занятие театром марионеток, в то время весьма распространенным. Еще из Москвы Лермонтов просил тетку выслать ему «воски», потому что и в Москве он «делает театр, который довольно хорошо выходит, и где будут играть восковые фигуры» [письмо номер 1 к М. А. Шан-Гирей]. Аким Павлович Шан-Гирей хорошо помнил этих актеров-кукол с вылепленными самим Лермонтовым головами из воска. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком-поэтом, носившая почему-то название «Berquin» и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Мишель, заимствуя сюжеты или из слышанного, или из прочитанного.
Лепил Лермонтов недурно, и С. А. Раевский рассказывает [материалы Хохрякова], что двенадцати лет он «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клитом при переходе через Граник». Слоны и колесница, украшенные бусами, стеклярусом и фольгой, играли тут главную роль.
Желая поправить здоровье внука, бабушка несколько раз возила его на кавказские воды[23]. У Столыпиных было имение Столыпиновка недалеко от Пятигорска[24], а ближе к Владикавказу жила сестра Арсеньевой Хостатова. В 1825 году поехали туда многочисленным обществом: бабушка, кузины Столыпины, доктор Анзельм Левис, Михаил Пожогин, учитель Иван Капэ и гувернантка Христина Ремер – все это сопровождало Мишу[25]. Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь съехались с Екатериной Алексеевной Хостатовой, прибывшей из своего имения.
В голове мальчика тогда бродило уже многое. Чуткий ко всем явлениям природы, черпая из них нескончаемый материал для жизни фантазии, Лермонтов не мог не поддаться обаянию величественного Кавказа. Впечатления эти коснулись отзывчивой души мальчика и вызвали новый мир жизни и любви. Вот тут-то встретился он с ребенком-девушкой, вызвавшей первую весеннюю грозу души и глубоко и надолго запавшей в память мальчика. Она была немногим моложе Лермонтова, лет девяти. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденные движения, а над ней – синее южное небо, упирающееся в седые вершины кавказских ледников, ниже – хребты гор, одетые причудливыми облаками, а вблизи – шум воды, бегущей меж скал по каменьям; вокруг – пышная зелень в блеске теплых лучей или облитая румяным закатом. Долго потом вспоминал мальчик-поэт этот Кавказ и время первой с ним встречи, время первого пробуждения души, и шестнадцатилетним юношей в тетрадях своих, в которых он изливал все чувства свои в стихотворной форме, он, вспоминая и славя Кавказ, как будто не в силах найти подходящую рифму и лад, пишет ему дифирамб стихотворной прозой:


