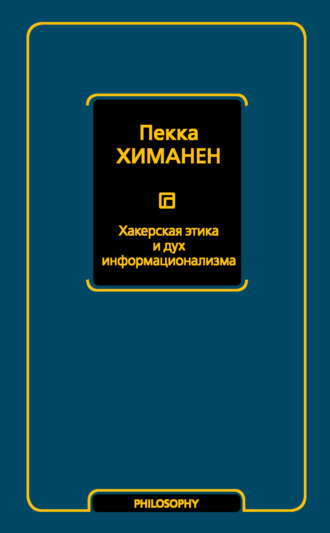
Пекка Химанен
Хакерская этика и дух информационализма
За примерами влияния протестантской этики не нужно далеко ходить. Фразы вроде «я всегда все делаю хорошо» или те части прощальных речей при проводах на пенсию, в которых говорится о том, что работник всегда был «трудолюбивым / ответственным / надежным / верным сотрудником», – вот наследие протестантской этики, поскольку в них нет ни слова о сути работы, которую выполнял виновник торжества. Возвышение работы до цели и смысла жизни – в крайних случаях у трудоголиков нет времени на собственных близких – еще один признак протестантской этики. Работу выполняют, стиснув зубы, забыв обо всем, кроме ответственности, и мучась угрызениями совести, если приходится пропустить денек-другой по болезни.
В более широком историческом контексте продолжающееся господство протестантской этики не должно удивлять: хотя современное общество во многом отличается от общества предшествующей индустриальной эпохи, наша «новая экономика» не подразумевает полного разрыва с описанным у Вебера капитализмом, это просто новый капитализм. В «Информационной эпохе» Кастельс подчеркивает, что работа в смысле ежедневного обязательного труда никуда не денется, несмотря на радужные прогнозы – наподобие тех, что содержатся в книге Джереми Рифкина The End of Work («Конец работы»). Легко поддаться иллюзии, что технический прогресс каким-то образом снизит нашу зависимость от работы, но если мы посмотрим на факты, сопровождающие подъем сетевого общества, и экстраполируем имеющиеся тенденции в будущее, то нам придется согласиться с оценкой, которую дал Кастельс:
Работа является и будет оставаться на протяжении обозримого будущего ядром человеческой жизни[36].
Хакеры не ставят под вопрос протестантскую этику как таковую. Дух сосредоточенности на работе и без опоры на церковь легко продолжает доминировать в сетевом обществе.
Так что в более общем контексте радикальная сущность хакерства состоит как раз в том, чтобы предложить этому обществу альтернативный дух – который наконец бросит наконец вызов господству протестантской этики. В этом единственном смысле все хакеры действительно взломщики – они ломают запор железной клетки.
Цель жизни
Победить протестантскую этику за один день не получится. Это потребует времени и больших перемен в культуре. Протестантская этика так глубоко укоренилась в сознании, что воспринимается как нечто естественное, как часть человеческой природы. Конечно же, это не так. Даже краткого взгляда на отношение к работе в эпоху до Реформации достаточно для того, чтобы полностью в этом убедиться. И протестантская, и хакерская этики возникли в определенный момент и стали развиваться.
Взгляды Ричарда Бакстера на работу совершенно нехарактерны для средневековой католической церкви. До Реформации духовные отцы посвящали время раздумьям о загробной жизни, но никто из них никогда не думал о загробном труде. Работа не входила в число церковных идеалов. Сам Господь трудился лишь шесть дней, а в седьмой отдыхал. Отдых и для людей стал высочайшей целью: на небесах, словно в вечное воскресенье, человеку не придется работать. В раю нет офисов. Можно сказать, что на вопрос «В чем цель жизни?» христианство давало ответ: «В том, чтобы всегда было воскресенье».
И это не шутка. В V веке св. Августин прямо сравнивал жизнь человеческую с пятницей, так как, согласно церковному преданию, именно в этот день согрешили Адам и Ева, в этот же день Иисус страдал и умер на кресте[37]. Августин писал, что на небесах мы обретем вечный выходной, день отдыха Господа и воскресения Христа: «Это будет поистине великою, не имеющей вечера субботою». Жизнь есть лишь долгое ожидание выходных.
Взгляд отцов церкви на труд как проклятие, как следствие грехопадения отразился в концептуальном подходе к описанию жизни Адама и Евы в раю. Что бы первые люди ни делали, это трудно назвать работой. Августин подчеркивает, что в Эдеме «земледелие было не мучительным трудом, а отрадным наслаждением» – не более чем приятным хобби[38].
До Лютера церковь понимала работу, «труд» как наказание. В средневековой визионерской литературе орудия труда предстают в своем истинном обличье орудий пыток: в аду грешников истязают молотами и другими инструментами. Больше того, согласно видениям духовных отцов, есть в аду пытка страшнее, чем физические муки, – бесконечный труд. В «Плавании святого Брендана» (VI в.) есть эпизод, когда Брендан видит рабочего – и немедленно осеняет себя крестным знамением, потому что понимает, что явился в место, где всякие надежды следует оставить. Вот текст этого эпизода:
Они увидели невдалеке остров, весь покрытый камнями и металлическим шлаком, неприветливый, лишенный растительности, на котором повсюду стояли кузницы. Достопочтенный отец сказал своим спутникам: «Воистину, братья, бедствия сулит нам этот остров, так что не хочу я даже приближаться к нему, но ветер несет нас прямо туда». Когда же они с поспешностью проследовали мимо, до них донесся звук, издаваемый кузнечным мехом, подобный свисту брошенного камня, а также удары, подобные грому, молотов по железу и наковальне. Услышав это, достопочтенный отец укрепил себя и осенил крестным знамением все четыре стороны света, сказав: «Господи Иисусе Христе, избави нас от этого острова».
Едва закончил молитву человек Божий, как один из обитателей этого острова вышел наружу будто бы по какому-то делу. Он был очень космат, вспыльчив и мрачен. Когда он увидел рабов Божьих, проплывающих мимо острова, то возвратился в свою кузницу, восклицая: «Горе! Горе! Горе!»[39][40]
Если ты не будешь вести себя хорошо в этой жизни, развивали свою мысль отцы церкви, то тебя обрекут на работу и в следующей. И что еще хуже, эта работа будет абсолютно бесполезной, лишенной смысла до такой степени, какую ты и представить не мог в самый худший свой рабочий день на Земле.
Наиболее сжато тема выражается в ставшей апофеозом допротестантского мировоззрения «Божественной комедии» Данте, которую поэт завершил незадолго до смерти в 1321 году. Грешники, посвятившие жизнь деньгам, – и скупцы, и расточители – обречены катать перед собой по бесконечному кругу огромные булыжники:
Их множество казалось бесконечным;
Два сонмища шагали, рать на рать,
Толкая грудью грузы, с воплем вечным;
Потом они сшибались и опять
С трудом брели назад, крича друг другу:
«Чего копить?» или «Чего швырять?» —
И, двигаясь по сумрачному кругу,
Шли к супротивной точке с двух сторон,
По-прежнему ругаясь сквозь натугу;
И вновь назад, едва был завершен
Их полукруг такой же дракой хмурой[41].
Данте взял идею из греческой мифологии. В Тартаре, куда отправлялись худшие представители рода человеческого, самому суровому наказанию подвергся жадный Сизиф, обреченный без конца затаскивать огромный камень на вершину горы, откуда тот неизменно срывался.
Я и Сизифа увидел, терпящего тяжкие муки.
Камень огромный руками обеими кверху катил он.
С страшным усильем, руками, ногами в него упираясь,
В гору он камень толкал. Но когда уж готов был тот камень
Перевалиться чрез гребень, назад обращалася тяжесть.
Под гору камень бесстыдный назад устремлялся, в долину.
Снова, напрягшись, его начинал он катить, и струился
Пот с его членов, и тучею пыль с головы поднималась[42].
Отдых манит Сизифа и Дантовых грешников, но никогда не наступает. Они обречены на вечную пятницу.
С учетом такого исторического фона мы можем полнее оценить, как сильно изменила наше отношение к работе протестантская Реформация. В аллегорическом смысле центр тяжести всей нашей жизни сместился от воскресенья к пятнице. Протестантская этика изменила идеологию так сильно, что даже небо и ад встали вверх тормашками. Когда труд стал самоцелью на Земле, духовенству уже труднее было представлять рай как место вечного отдыха и работа перестала быть вечной карой. Так, протестантский богослов XVIII века Иоганн Каспар Лафатер писал, что на небесах «мы не можем вкушать блаженство без занятий. Иметь занятие означает иметь призвание, должность, свое особенное дело». Баптист Уильям Кларк Ольят в начале XX века выразил эту мысль предельно сжато: «В сущности, рай – это мастерская»[43][44].
Протестантская этика со своим культом труда оказалась столь сильна, что проникла даже в наше воображение. Яркий тому пример – роман «Робинзон Крузо» (1719), написанный Даниэлем Дефо, воспитанником протестантского проповедника. Выброшенный на необитаемый остров Робинзон не предается безделью, а постоянно трудится. Он настолько трудолюбив, что работает даже по воскресеньям, хотя в остальном старается соблюдать недельный цикл[45]. Дикаря, спасенного им от соплеменников, он весьма уместно называет Пятницей, воспитывает в протестантском духе и хвалит словами, точно передающими протестантский идеал работника:
Никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего Пятницы: ни раздражительности, ни упрямства, ни своеволия; всегда ласковый и услужливый, он был привязан ко мне, как к родному отцу[46].
В XX веке Мишель Турнье сатирически переписал роман Дефо, назвав его Vendredi («Пятница»). В этой версии обращение Пятницы в протестантскую этику выглядит еще более радикально. Крузо решает проверить слугу с помощью даже более бессмысленного задания в духе Сизифа, чем то, что мы находим в уставе Кассиана:
Я поручил ему самую дурацкую работу, которая на всех каторгах мира считается наиболее унизительной: вырыть яму, рядом – вторую, чтобы свалить в нее землю из первой, рядом – третью, чтобы свалить в нее землю из второй, и так далее. Он трудился целый день под раскаленным добела небом, в удушливом зное… Так вот: сказать, что Пятница не возмутился этим бессмысленным занятием, – значит не сказать ничего. Мне редко приходилось видеть, чтобы он трудился с таким беспримерным усердием[47].
Воистину, Сизиф превратился в героя.
Жизнь со страстью
При рассмотрении хакерской этики в широком историческом контексте нетрудно заметить, что эта этика – понимаемая не только как этика компьютерных хакеров, но и как более общий социальный феномен – куда больше напоминает этику допротестантской эпохи, чем протестантскую. В этом смысле можно сказать, что для хакеров цель жизни ближе к воскресенью, чем к пятнице. Но только ближе: по большому счету хакерская этика не совпадает с допротестантской, с ее идеалом рая как полного ничегонеделания. Хакер стремится реализовать свою страсть и готов принять, что работа даже над интересным заданием не всегда приносит одну только чистую радость. Для хакера страсть означает общее направление его жизни, хотя движение по нему далеко не всегда и не во всем бывает веселой игрой. Линус Торвальдс описывает работу над Linux как сочетание приятного хобби и серьезной работы: «Linux во многом был хобби (хотя и очень серьезным – лучшее сочетание)»[48][49].
Страстные и творческие, хакеры в то же самое время не уклоняются от тяжелого труда. В руководстве «Как стать хакером» Рэймонд говорит: «Быть хакером – удовольствие, но это удовольствие требует больших усилий»[50]. Да, чтобы создать хоть что-то стоящее, надо постараться. Если надо, хакер готов взять на себя наименее интересную часть работы в общем проекте. Осмысленность общего труда придает значение даже самым скучным частям проекта. Рэймонд пишет: «Самоотверженность и тяжелый труд становятся насыщенной игрой, а не рутиной»[51]. Есть разница между всегдашней серостью и страстью всей жизни, при воплощении которой иногда приходится решать монотонные, но необходимые задачи.
Глава вторая. Время – деньги?
Еще одна важная особенность специфического отношения хакеров к работе – их отношения со временем. Linux, интернет и персональный компьютер разработаны не в офисе с девяти до пяти. Когда Торвальдс писал первые версии Linux, он обычно работал допоздна, ложился под утро и просыпался к обеду, чтобы продолжить работу. Иногда он переключался с написания кода на компьютерные игры или на что-то вообще постороннее.
Подобные свободные отношения со временем типичны для хакеров, которые ценят индивидуальный жизненный ритм. В своем знаменитом труде Вебер подчеркивает органическую связь между концепциями работы и времени, указывая на характерное чувство времени как на неотъемлемую часть протестантской рабочей этики. Вебер цитирует девиз Бенджамина Франклина «Время – деньги»[52]. Дух капитализма вырос из подобного отношения ко времени.
При рассмотрении доминирующего в современном обществе подхода ко времени становится очевидно, что, хотя структура экономики во многом изменилась со времен промышленного капитализма, заветы протестантской этики в части организации времени большей частью остались в силе. Сейчас даже маленькие промежутки времени рассматриваются как весьма ценные. Для обозначения этой тенденции сетевого общества Кастельс подобрал удачный термин «сжатие времени»[53].
Оптимизация времени
Подобная оптимизация времени так или иначе касается всех. Формат деловых новостей – отличный культурный показатель ускорившегося пульса нашей эпохи. Экономические новости на CNBC сопровождаются фоновой музыкой более энергичного ритма, чем музыкальные новости MTV, а графические эффекты опережают музыку. Даже если не вникать в суть новостей, становится ясно, что надо поторапливаться. А еще становится понятно, что именно высокоскоростная экономика, которую нам преподносят в формате прогноза погоды, определяет темп нашей повседневной жизни. Как и в прогнозе погоды, нам просто сообщают об условиях, к которым нам остается лишь приспособиться: в Нью-Йорке солнечно и приятные плюс 80 пунктов на NASDAQ, к Токио приближается ураган и возможны финансовые потери…
В своей «Информационной эпохе» Кастельс эмпирически доказывает, что в условиях построенной на информации глобальной экономики (или, точнее, информационной экономики, поскольку современная экономика строится на новой информационно-технической парадигме) конкуренция усиливается[54]. Из-за стремительного технологического прогресса становится критически важным донести до потребителя новые технологии до того, как это сделают конкуренты. Недостаточно быстрые компании предлагают устаревшие продукты; еще хуже дела у тех, кто слишком поздно реагирует на фундаментальные технологические сдвиги.
Яркие примеры этой культуры скорости – компании Amazon.com, Netscape и Dell Computer, символы современной информационной экономики[55]. Джефф Безос, бывший биржевой брокер и основатель онлайн-магазина Amazon.com, объясняет, почему так важно идти в ногу с прогрессом:
При росте в 2300 процентов за год [так бурно развивалась всемирная сеть во времена основания Amazon.com] нельзя стоять на месте. Чувство ценности времени становится важнее всего[56].
Джим Кларк, основатель трех компаний стоимостью в миллиард долларов каждая (одна из них – как раз Netscape), так описывает свой перелет из Иллинойса, где был разработан веб-браузер Mosaic, сделавший возможным взрывной рост интернета, обратно в Кремниевую долину, после того как стало ясно, какие перспективы сулит развитие Сети:
Часы тикали. Даже те три с половиной часа, что я провел в воздухе между Иллинойсом и Сан-Франциско, можно было бы потратить с пользой. По сравнению с этим постоянно растущим ускорением закон Мура с его восемнадцатимесячным шагом[57] казался описанием ленивого покоя. В значительно меньшие сроки нам предстояло создать принципиально новый продукт и вывести его на рынок… Отныне восемнадцать месяцев Мура превращались в целую эру, а мысль теперь бежала со скоростью светового сигнала по оптоволокну.
Согласно «закону постоянного ускорения» Кларка, технологические продукты должны выходить на рынок все чаще и чаще. Соответственно должна была возрасти и скорость перемещения капитала успешных предпринимателей. Инвестиции часто перераспределяются за несколько часов, минут или даже секунд. Капитал не должен застаиваться в виде складов, магазинов или зарплат сотрудников, без которых можно обойтись: он должен быть под рукой в любую минуту для вложений в новые технологии или постоянно меняющиеся приоритетные цели на финансовых рынках.
Сжатие времени дошло до такой стадии, когда техническая и экономическая конкуренция заключается в обещаниях, что будущее наступит раньше, чем у конкурентов. По словам маркетологов, технические новинки принесут нам будущее уже сегодня. Соответственно, в сфере экономики никто не хочет ждать до завтра, вот почему стоимость интернет-компаний взлетела до небес в рекордные сроки, задолго до того, как начали сбываться возложенные на них ожидания.
В этом высокоскоростном мире стремительно меняющаяся обстановка (например, технические изменения или неожиданные колебания финансового рынка) может навредить даже процветающим компаниям и повлечь увольнения даже отлично справлявшихся со своей работой сотрудников. Чтобы приспособиться к постоянным изменениям и выжить в мире ускорившейся технико-экономической конкуренции, корпорации перешли на более гибкий режим работы.
Во-первых, гибкость достигается за счет использования сетевой модели. В эпилоге своей книги Мануэль Кастельс описывает взлет сетевых предприятий[58][59]. Такие предприятия сосредоточиваются на главном, а удовлетворение сиюминутных потребностей отдают на откуп временным субподрядчикам и консультантам. Если учиться все делать самому, это отнимает массу времени, а избыточные кадры после выполнения задачи становятся обузой. Сетевые предприятия даже готовы войти во временный союз с непримиримыми конкурентами для совместной реализации того или иного проекта. Даже внутренняя структура таких предприятий представлена относительно независимыми отделами, совместно работающими лишь в рамках конкретных проектов. Структура занятости стала куда более гибкой по сравнению с моделью постоянной работы по найму. Кастельс говорит о работниках с гибким графиком[60]. Сетевая модель дает предприятию возможность нанимать только тех людей, которые нужны для текущих проектов, что фактически означает, что в качестве работодателей выступают не предприятия как таковые, а их проекты – которые компания ведет самостоятельно или в кооперации с другими предприятиями[61].
Во-вторых, в сетевом обществе работа ускоряется за счет оптимизации процессов, или реинжиниринга – термин, введенный теоретиком менеджмента Майклом Хаммером. Его статья Reengineering: Don’t Automate, Obliterate («Реинжиниринг: не автоматизируйте, вычеркивайте») была опубликована в 1990 году в журнале Harvard Business Review и оказала большое влияние на современный менеджмент[62]. Переход к новой экономике не сводится к открытию собственного веб-сайта; такой переход подразумевает полное переосмысление процесса, после которого этот процесс, возможно, будет состоять из совершенно иных этапов; в любом случае все лишние этапы сокращаются и задержка товаров на складах минимизируется или устраняется полностью. В культуре скорости неподвижность еще хуже, чем промедление[63].
В-третьих, знакомая уже индустриальному обществу автоматизация сохраняет свое значение. Показательно, что в новостях о высокотехнологичном производстве мы часто видим людей у конвейера. После оптимизации процесса каждый из его этапов все равно следует ускорить путем автоматизации (иногда оптимизация и автоматизация меняются местами, что легко может привести к ускорению ненужных или прямо вредящих делу производственных циклов). Даже индустрия высоких технологий все еще включает материальное производство, но людям в нем отводится по возможности минимальная роль, и их обучают выполнять свои задачи максимально быстрым способом. Таким образом, улучшенная версия тейлоризма – разработанного Фредериком Уинслоу Тейлором метода оптимизации временных затрат в условиях промышленного капитализма – все еще находит себе место в сетевом обществе.
Культура скорости требует от информационного профессионала нашего времени постоянно повышать собственную эффективность. Рабочий день разбит на ряд подзадач, и приходится торопиться, чтобы все их выполнить. В постоянном стремлении сдать очередной проект в сжатые сроки у профессионала не остается времени на пустяки, он обязан оптимизировать время, чтобы оставаться на высоте.
Воскресенье становится пятницей
Центральное место, занимаемое работой в старой протестантской этике, уже означало, что на работе нет времени на игры. Апофеозом этой этики в информационной экономике стал тот факт, что идеалы оптимизации времени теперь распространяются и на жизнь вне работы (если таковая осталась). Под прессом оптимизации рабочего времени – или пятницы, если оставаться в рамках метафор из первой главы, – теперь исчезает и противолежащий полюс протестантской этики – непринужденная беззаботность воскресенья.
После того как рабочее время оптимизировано до предела, все другие стороны жизни также подчиняются требованиям оптимальности. Чем бы вы ни занимались в свободное время, надо выполнять это максимально эффективно. К примеру, только новичок может позволить себе расслабиться, не пройдя курс по техникам релаксации. Заниматься каким-либо хобби на любительском уровне просто смешно, вас засмеют. Сначала непринужденность убрали из работы, потом из игры, оставив в результате лишь оптимизированный отдых.
В своей книге Waiting for the Weekend («В ожидании уик-энда») Витольд Рыбчинский приводит отличный пример такой перемены:
Раньше люди просто играли в теннис; теперь они отрабатывают удар слева[64].
Другие способы подчинить отдых работе – это оттачивание в свободное время навыков, необходимых для работы; или, напротив, максимальная изоляция от работы, чтобы с новыми силами наброситься на нее в понедельник.
В оптимизированной жизни даже время отдыха организовано как рабочее. Время, проведенное дома, планируется со всей тщательностью рабочего распорядка: отвести ребенка в спортивный кружок 5:30–5:45. Тренажерный зал 5:45–6:30. Сеанс терапии 6:30–7:20. Забрать ребенка из кружка 7:20–7:35. Приготовить еду и поесть 7:35–8:00. Посмотреть телевизор с семьей 8:00–11:00. Уложить ребенка спать. Поговорить с супругом 11:00–11:35. Посмотреть вечернее шоу 11:35–12:35. Уделить еще кое-какое внимание супругу (время от времени) 12:35–12:45. День на манер рабочего разделен на четкие отрезки, а расписанная по минутам телепрограмма только укрепляет такое деление. Домашнее время часто воспринимается как рабочее: бег от задания к заданию, чтобы все успеть. Как это удачно сформулировала одна мать семейства в интервью о новых символах социального статуса домохозяйств,
раньше были просто дом и машина. А теперь мы говорим друг другу: «Вы заняты? Да вы только посмотрите, как заняты мы!»[65]
В своей книге «Цепь времени» социолог Арли Рассел Хохшильд дает прекрасное описание степени, до которой дошла оптимизация домашнего времени по рабочим образцам. Хохшильд не анализирует связь между этим феноменом и информационной экономикой, но его легко вписать в более общий контекст, представив произошедшие изменения как результат применения трех форм оптимизации временных затрат, взятых из деловой жизни. Дом подвергся тейлоризации, стал автоматизирован так, чтобы люди выполняли свои предельно упрощенные задачи как можно быстрее. По мнению Хохшильд, «уровень родительских навыков упал»: приготовленная в микроволновке еда пришла на смену домашним ужинам по семейному рецепту. Семья больше не изобретает собственные формы досуга, теперь достаточно нажать кнопку на пульте и встроиться в социальный конвейер телевидения:
После ужина члены семьи устраиваются поудобнее и в молчании наблюдают, как мамы, папы и дети из сериалов энергично общаются друг с другом[66].
Домашний менеджмент взял на вооружение сетевую бизнес-стратегию, в частности аутсорсинг, от еды с доставкой до детских садов и яслей (субподряд на приготовление еды и уход за детьми). Хохшильд описывает, во что превратились матери (и отцы):
Страдая от вечного недостатка времени, мать вынуждена выбирать между выполнением родительских обязанностей самой или покупкой их как товара у кого-то еще. Полагаясь на растущее меню товаров и услуг, мать все больше становится менеджером материнства, координатором отданных на аутсорсинг частей семейной жизни[67].
Наконец, приходит оптимизация процесса. Даже дома «процесс» ухода за ребенком оптимизирован, «лишние» этапы выброшены. Родители перестали неэффективно тратить время, «бесцельно» возясь с ребенком; теперь у такой активности есть начало и конец и она состоит из какого-то определенного события или преследует конкретную цель (например, подготовка ребенка к школьному спектаклю или спортивному конкурсу или визит в парк развлечений). Всякий простой минимизирован или вычеркнут. Родитель, вполне усвоивший культуру скорости, даже может поверить, что и для ребенка так лучше, чем если бы родители проводили с ним время «просто так». Хохшильд иронизирует:
Можно подумать, что интенсивность совместно проведенного по расписанию времени может скомпенсировать общую нехватку внимания и таким образом сохранить нормальные отношения[68].
Гибкое время
В условиях информационной экономики вся наша жизнь оптимизирована по лекалам, характерным для работы (а в прежние времена нехарактерным и для нее). Но и это еще не все. В дополнение к оптимизации времени во имя работы протестантская этика предусматривает еще и организацию времени вокруг работы. Протестантская этика внесла идею рабочего графика как стержня всей жизни. На долю самоорганизации оставлены лишь объедки рабочего времени: вечер – то, что осталось от рабочего дня, выходные – то, что осталось от рабочей недели, и жизнь на пенсии – то, что осталось после жизни на работе. Время всей жизни строится вокруг неизменного изо дня в день расписания.
Вебер указывает, что в протестантской этике
случайную работу, которую часто вынужден выполнять рядовой поденщик, следует рассматривать как подчас неизбежное, но всегда нежелательное временное занятие. В жизни человека «без определенной профессии» отсутствует тот систематически-методический характер, который является… непременным требованием мирского аскетизма[69].
Пока что в информационной экономике такая организация времени не слишком изменилась. Немногие имеют возможность отвязаться от жесткого расписания несмотря на то, что новые информационные технологии не только сжимают время, но и делают его гибким. (Кастельс говорит о «разбиении последовательного времени».) С помощью интернета и мобильного телефона можно работать откуда и когда угодно. Эта новая гибкость не означает, однако, что время автоматически будет распределяться более равномерно. Фактически доминирующая тенденция информационной экономики состоит в еще большем усилении роли работы за счет гибкости. Специалисты информационной эпохи чаще делают «перерывы на работу» во время отдыха, чем наоборот. На практике отведенное на работу время все еще строится на восьмичасовом (как минимум) рабочем дне, но и отдых теперь прерывается краткими делами: полчаса на телевизор, полчаса работы с почтой, полчаса на воздухе с детьми, и за это время еще и звонок-другой по работе.


