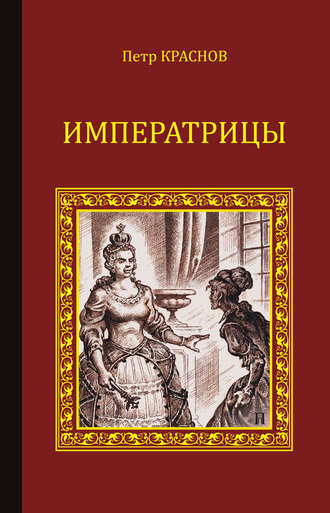
Петр Краснов
Императрицы (сборник)
Ямщик и полковник скинули перед ней шапки, и Алеша, отдаваясь преклонению перед совершенной этой красотой, сорвал с головы старый мерлушковый капелюх с серым чабаньим верхом и низко поклонился.
Губы девушки раскрылись в ласковой улыбке. Она небрежно-милостиво кивнула головой в ответ на поклон, круто повернулась, подбежала к качелям и, выждав, когда доска проносилась мимо, вскочила на нее и стала у жердей.
«Випп-вупп», – скрипели качели под нажимом сильных ног. Дальше ехала телега, несся за ней запах березы, черемухи и ландышей, и догоняла ее веселая срамная песня:
Сели девки на качели,
Взад-вперед снуют,
Чтоб качели вверх летели,
Значит… – поддают…
«Випп-вупп, випп-вупп», – в лад песне носились вверх, вниз качели.
Ямщик и Вишневский накрыли головы. Легкой рысцою побежали передохнувшие лошади.
– Кто она, ось подивиться? – задыхаясь от непонятного счастья, спросил Алеша.
Ямщик обернул к нему улыбающееся лицо.
– А не признал, что ли?.. – сказал он, блестя серыми лукавыми глазами. – Одна ведь на всю Расею такая и есть… А? Цесаревишна!
II
В Петербурге полковник Вишневский представил Алешу обер-гофмаршалу графу Рейнгольду Левенвольду. Сухой и чопорный швед в высоком пудреном парике, бритый, в темном кафтане, осмотрел молодого парня и задал несколько коротких вопросов.
– Родился когда?
– Року тысяча семьсот девятого, марта семнадцатого, пан, ваше сиятельство.
– Грамотен?
– Трошки учывся.
– В церкви пел?
– Случалось, и спивал.
Граф Левенвольд сделал знак. Бритый лакей в шитом золотом кафтане, в белых панталонах, щиблетах с золотыми пуговицами и мягких башмаках неслышно подошел к графу и наклонил голову.
– Снаряди гусара. Пусть отведет молодца на Мойку к полковнику Ранцеву, на дом. Скажет – принять на квартиру. От меня, мол, прислан, – повернув голову к Алеше, еще стороже и суше кинул: – В придворный хор! Для апробации! Дальше видно будет. Там вашего брата черкас от гетмана Даниила Апостола немало прислано. Полковник обучит тебя чему надо. Неотесан совсем. Ишь стоишь как, расставив ноги… Раззява!
Алеша только глазами моргал. В голове нескладно гудело. Все казалось, стучат колеса телеги по дорожным ухабам, камням и сухим колеям!
«В придворный хор, – думал он, – ишь ты как склалося. Скажи-ка дома, скажут: брешешь!.. А какая там брехня? Ишь ты какой важный, в кафтане, почище чемерского дьячка будет. Прямо архиерей немецкой…»
Гусар в высокой шапке вел Алешу по петербургским улицам. Как вся Россия, так и Петербург строился. Рушили низкие и маленькие, голландского стиля, дома петровской стройки с деревянными крыльцами, выбегавшими на улицу, и на их место воздвигали высокие, в три и четыре яруса хоромы. Улицы были то мощены крупным булыжником, то деревянными толстыми опалубками, местами прогнившими и провалившимися. По ним ездили двуколки и кареты, запряженные то парой, то четвериком цугом. Вдоль улиц, где по тротуарам из досок, где по пыльным натоптанным в траве тропинкам, шли люди. Торговцы несли лотки на головах и кричали, заглядывая в окна домов.
За Мойкой Невский стал так широк, что сто человек могли идти по нему в ряд. Справа и слева, бульварами, росли кудрявые круглые липы. За ними были широкие луга. По зеленой низкой траве в желтых и белых цветах паслись коровы. Проспект упирался в длинное белое трехэтажное здание, в середине его была башня в стройных колонках, с длинным и узким золотым шпилем, на вершине которого через мелкие золотистые барашки облаков плыл по небу золотой кораблик. Дальше виднелось кружево мачт и канатов настоящих кораблей.
Еще увидал Алеша влево за площадью такой большой храм, какие только в Москве были. Узкая его колокольня поднималась к небу. Гусар рассказывал Алеше:
– Смотри, хохол, то Адмиралтейство, где корабли строят, а то будет церковь Исаакия Далматского, а по ту сторону длинное розовое деревянное строение, то Зимний дворец, где императрица, Ее Императорское Величество, пребывание изволит иметь. А туда дальше идет Большая Немецкая улица. Понял? Запоминай!.. Господа пошлют тебя куда, будешь знать, как идти.
У небольшого одноэтажного особняка с крыльцом и с высоким деревянным забором вдоль сада гусар за фалду остановил Алешу. Звонко брякнул за дверью колокольчик. Старый солдат, полковничий денщик, отворил и, расспросив, в чем дело, пошел докладывать.
– Просют, – сказал он Алеше. – Ты можешь идти. Парень здесь останется.
Он открыл белую дверь с бронзовыми ручками. За дверью была светлая горница. Два окна в мелком переплете открывались в сад. Солнце светило на желто-дымные скользкие квадратные шашки паркета. Пахло воском канифоли, крепким табаком, смолой и водой. Белесые шпалеры покрывали стены. Против двери, на стене, на толстых шнурах в овальной золотой раме висел портрет императора Петра Великого. Под портретом на орехового дерева резной полочке стояла модель парусного корабля. По сторонам висели картины. В углу горницы был шкап с книгами в желтокожаных переплетах. Подле него, в особом ставце, стояло знамя. Золотое копье с орлом венчало древко. Под портретом был большой дубовый стол. Из-за него поднялся навстречу Алеше полковник Ранцев, командир Ладожского пехотного полка.
Согласно с регламентом Петра Великого – «полковнику надлежало знатному и искусному благовзрачному мужу быть, дабы свой почтенный чин мог с благопристойной честью тако вести, чтобы полку своему во всех случаях не гнусен был»…
Таков и был полковник Сергей Петрович Ранцев. Если знатность его могла быть оспариваема – он был «птенец гнезда Петрова» – дворянин без двора, каких создал Петр и кем заселил свой Петербург, то воинское искусство его было засвидетельствовано в первой и второй Нарве, под Лесной и Полтавой и даже под Дербентом. Всю Россию с севера до крайнего юга исколесил с полком полковник Ранцев.
Никак не мог он быть «гнусен своему полку». В мирное ли время, пешком, перед строем, на церемониальном марше или при занятии лагеря – высокий, статный, худощавый, в длиннополом армейском кафтане темно-зеленого сукна, с расстегнутыми у ворота пуговицами, с белым шелковым галстухом на шее, повязанным широким бантом, туго стянутый в талии золотом обшитым ремнем со шпагой, в чулках и щиблетах, в черной шляпе с тремя загнутыми полями, обшитой золотым галуном, в голубой, василькового цвета епанче, изящно наброшенной на плечи, в пудреном парике, красиво обрамлявшем сухое, загорелое, всегда чисто выбритое лицо, с трехаршинным партазаном с золотой кистью у копья в руке – он был на голову выше своих гренадер и шел впереди них легко и смело, как подлинный вождь, ведущий полк. В баталии, на лошади, позади фрунта он ездил от одного фланга к другому, «побуждая всех ко исполнению своей должности против неприятеля». Умел он и сам стать впереди полка за «флигельмана» и так «метать артикулы», прихлопывая ладонью по суме и пристукивая по ружью, что сердце замирало у зрителей от восторга, и двухтысячная солдатская масса, стоявшая перед ним в четырехшереножном строю, увлеченная им, действовала, как согласная машина.
Был он и «благовзрачен» – с тонкими чертами благородного лица, с глубокими и строгими серо-стальными глазами, видящими самую душу солдата. Кроме полка, службы, армии, России у Сергея Петровича было только обожание Петра Великого. Он не знал и не хотел знать старой допетровской России с ее важными, медлительными, пузатыми боярами, торжественной полуславянской речью, темными палатами, душными хоромами и ханжеским древлим благочестием. Для него Россия начиналась с Петра, и была та Россия – великая Россия славы императорской.
Мальчиком, сыном дворцового служителя Преображенской слободы, он пошел потешным на службу и, не отступая ни перед чем, прошел всю жестокую школу Петра. Казни и пытки стрельцов во время подавления мятежей старой России против новых порядков его не смутили. Солдат петровской регулярной армии, немцами вымуштрованной, шведами апробованной и натасканной, он презирал старое стрелецкое войско и пренебрежительно называл его «стрель-цi» – с «i» на конце. Он сопровождал Петра в его путешествии в Голландию и Францию и, вынеся много полезного от чужеземцев, остался русским, петровским солдатом. Жестокая ломка Петра, – Ранцев, по приказу цареву, стриг бороды и брил усы боярам, пытал и жег раскольников, издевался с князь-папой Ромодановским над изуверством и кликушеством, смирял гордыню духовенства в Синоде, все с одной мыслью: новая Россия не должна ничем походить на старую Московию. Со своими солдатами он рубил полковые светлицы и устанавливал их чинными рядами-ротами на островах невской дельты, устраивая Санкт-Петербург, он садил сады и огороды, твердо веруя, что парадиз петровский затмит Москву.
У него не было рода. Ряды предков, записанных в боярские книги, князья и бояре, не стояли за ним. За его кабинетом, в чистеньком светлом зальце, с окнами, доходящими до пола, у стены, на особом постаменте, под стеклянным колпаком, как некая святыня, лежали патронная сума и ранец с флягой – солдатская его амуниция. Без роду и племени – «Сережкой» вошел он в солдатскую жизнь потешных и Петром за красиво уложенный ранец, умело и ловко вздетый на плечи, был назван Ранцевым. Ранец стал его гербом.
Он забыл о подлинной своей родине – селе Преображенском, его родиной стал Санкт-Петербург, при его участии строенный. Из Петербурга была взята им жена – Адель Фридриховна, дочь шведского шкипера, а посаженым отцом был сам Петр. В Петербурге родились и дети: сын Петр и дочь Маргарита. Он начинал ту Петербургскую Россию, которая казалась ему краше и славнее Московской Руси.
Опытным, офицерским взглядом Ранцев осмотрел вошедшего к нему рослого парня в сером малороссийском чекмене и по-солдатски оценил его.
– В придворные певчие, – сказал он. – Хорош, очень хорош! Такие везде надобны… России, братец, такие люди нужны… О голосе твоем судить будут те, кто к сему делу приставлен. Его сиятельство граф Левенвольд писал мне, чтобы временно принял я тебя в нахлебники и обтесал тебя… Учись!.. Наука не всегда и не в одной токмо школе обретается. Я помещу тебя с моим сыном, сержантом Преображенского полка… Когда свободен, ходи с ним, смотри ученья – пригодится. Когда найду время – побеседую с тобою. Имеешь что заявить?
Но не успел Алеша и рта разинуть, как полковник протянул руку и громко скомандовал:
– Ступай!
И такова была сила его команды, что сзади Алеши невидимая рука распахнула дверь, а сам Алеша, как мог проворнее, повернулся кругом и вышел из кабинета.
«Фрыштыкали» в полдень, когда сержант Петр Ранцев возвращался с ученья, обедали в пять, в девять часов было «вечернее кушанье», в одиннадцать ложились спать. Так установилась по ранцевскому регламенту петербургская жизнь Алеши Розума. Она вполне совпала с теми занятиями, к каким привлекли его в придворной певческой капелле.
После ужина, когда Адель Фридриховна, высокая худощавая женщина, с голубыми глазами при темных волосах, делавшими ее лицо особенно моложавым и женственным, села в углу за пяльцами, полковник Ранцев раскурил трубку голландского кнастера, подал огня сыну, юноше семнадцати лет в Преображенском кафтане, широким жестом показал Алеше, чтобы он оставался за столом, и повел беседу-поучение.
Рита, ей шел шестнадцатый год, принесла на подносе высокие глиняные кружки с «английским» пивом. Настежь раскрыли окно, выходившее в сад, окруженный высоким забором. Румяная горела заря за садом. Все никак не могло зайти за горизонт низкое солнце. В розовой дымке были цветущие черемухи, белые стволы молодых берез казались прозрачными. Резеда и левкои в клумбах благоухали. Вдоль дорожки сада узорным ковром росли маргаритки.
С Невы тянуло свежестью, запахом воды и смоляных канатов. Из города приглушенный доносился стук подков и дребезжание колес по мостовой. Где-то далеко, должно быть в Семеновском полку, бил «тапту» (вечерняя заря) барабан. Белая ночь надвигалась на город. Воробьи перекликались в кустах. В березовых аллеях, укладываясь на ночь, серый дрозд посвистывал томно и нежно. Запах сада то вливался в комнату, то глушился терпким, крепким запахом табака. Старый и молодой Ранцевы расстегнули кафтаны. Белые камзолы выделялись в сумраке комнаты.
– Гляжу на тебя, Алексей, и не знаю, кем ты будешь? – сказал Ранцев-полковник.
– Та як же?.. Казали – певчим… Певчим и буду, – скромно ответил Розум.
– Нет, братец. Прозорливость моя говорит мне, быть тебе и поболее, чем певчим… И рост, и красота, и осанка!.. Тебе в гвардии солдатом быть. Ныне, конечно, не те времена… – Полковник вздохнул. – При Петре…
Алеша мягко улыбнулся и, коверкая русские слова и стараясь возможно понятнее изложить то длинное и сложное, что ему надо было сказать и что – он это чувствовал – не понравится полковнику, тихо проговорил:
– Господин полковник… Не маю ревности к военной службе и до смерти боюсь воинского артикула. Спивать – вот моя охота. Вчора его сиятельство, граф Левенвольд, изволил слушать, как я в капелле пел один и с хором, и сказывал: дюже гарно у меня идет. Он указал мне ревность иметь к чтению философов, к развитию ума, к изучению итальянского пения. Он сказал, что даст мне случай послушать придворных ее высочества французских певцов и знаменитых итальянских кастратов. Воинское искусство представляется жестоким нежному моему сердцу… Вот хвилосохвия…
Полковник перебил Алешу и не дал ему договорить. Он нетерпеливо стукнул кружкой. В словах Алеши он услыхал то, что давно раздражало и заботило его. Этим миролюбием полна была вся теперешняя послепетровская жизнь. Об этом любили говорить в салонах Петербурга, и от самого двора Анны Иоанновны веяло этим желанием «перековать мечи на орала»… Вместо петровского живого дела пошла роскошь, «хи-хи», да «ха-ха», да вот эта самая философия. Полковник Ранцев, прищурив глаза, смотрел на Алешу. «Кто его знает, – думал он, – кем еще станет этот красавец певчий. Какая фортуна его ожидает?.. Молод, а туда же – о философии рассуждает, воинское искусство порицает… надо, пока не поздно, выбить из него сию дурь… Философию…»
– Есть мнимые философы, – с горечью сказал он, – которые укоряют Великого Петра жестокостью и бесчеловечием на войне и называют вообще воинов наших варварами. Но не всегда ли кровавы средства на войне? Высочайший нравственный закон равно ли действует, как на философа в кабинете, так и на гренадера, который возьмет штурмом батарею и еще бродит по колено в крови. При взятии крепости приступом, как брали мы Нарву, с великим уроном, легко ли сохранить чувство человечества?.. Вот отчего война бывает всегда жестока, и жестокость сия происходит от человеческой натуры. Сколь любезно всемирное согласие и братство чувствительным душам! Так мечтали много веков философы и ныне о том восклицают!.. Но представим себе злополучные времена, в которые Россия страдала под игом варваров, когда поляки и татары, пользуясь изнеможением нашим, терзали отечество наше и целые российские княжества покорены были их подданству. Внутри раздирали сердце России самозванцы, раскольники, «стрельщики», разбойники, злодейства и предательства. С севера шведы наводнили было Россию, где, ископав они гробы, в них и погребли себя невозвратно. С юга империя Оттоманская, по своему закону и духу правления, всегда была опасный враг России и вечный неприятель христиан. Прочти историю отечественную – и сердце обольется кровью, чувствительный человек потрясется в бытии своем, представив в живой картине все ужасы, понесенные Россией.
Старый Ранцев залпом выпил кружку пива. Белый свет северной ночи стоял в столовой. В углу у зажженной восковой свечи сидела Адель Фридриховна и, наклонившись над пяльцами, вышивала гладью. Рита сидела у ее ног на маленькой скамейке-качалке и, расставив колени, держала в руках концы пяльцев. Петр Ранцев неподвижно стоял у окна. Алеша облокотился на стол и глубоко задумался. Не все понятно ему было в словах полковника, но самый гром его слов захватывал. Полковник замолчал, и Алеша тихо спросил и сам испугался, что нарушил молчаливое шествие ночи:
– Ось подивиться! Что же дальше?
– Дальше?..
Полковник встал, Алеша медленно поднялся от стола и подошел к Петру Ранцеву. Под самый потолок уходила голова полковника и была освещена зеленоватым отблеском июньской ночи. Серый дрозд вопросительно просвистал в кустах сирени и, точно подзадоривая, спросил: «А дальше что?»
– Дальше?.. Поистине справедливо, что мы учинились оружием и промыслом славными, страшными и во всех частях света громкими. Российский народ есть прехрабрейший на свете, и с сей стороны никто не смеет опровергать достоинств наших. И в пределах России явились те, что в Риме были Сципионы, в Афинах Мильтиады, Фемистоклы, Аристиды, Фразибулы, Кононы-Ификраты и Тимофеи, в Коринфе Тимолеоны, и напоследок в Карфагене – Амилькары и Аннибалы, и у нас так же есть свои Курции, Кольберты, Ришелье и Марлборуги. Но да уступит нам древность, и да умолкнет баснословная ее пышность. Посвященные вечности Мемфисские пирамиды сокрушились, и ты, Колосс Родосский, разрушился и смирил свой прегордый вид. Слава наших героев не на баснословии основана, и нетленные поставляет она себе бессмертия пирамиды и обелиски – славные дела наши незатмеваемы пребудут. Ибо мы не собственной искали славы, но полагали оную в славе и благоденствии своих соотечественников и утверждали на любви ближних своих и на любви всего рода человеческого!..
Полковник Ранцев высоко поднял гордую голову и так громко стал заканчивать речь свою, что умолкли птицы в саду и эхо отозвалось о садовый забор:
– И доколе российский пребудет глаголющ на земли язык и письмена не истребятся – не истребятся наши пирамиды и хвалы, не истребит и не затмит славных и неподражаемых дел наших никакая едкость времени, никакие перемены света и никакая грядущих веков отдаленность!..
– Виват, – восторженно прошептала Рита. Полковник твердыми, широкими шагами вышел из горницы.
«Сентенции» Сергея Петровича, а еще того более незаметное влияние Риты шлифовали Алешу. Он уже говорил по-русски, лишь иногда вставляя малороссийские слова. Он проникся восторженным обожанием Петербурга и старого петровского двора, которым была полна вся ранцевская семья. Он начал все более и более интересоваться «цесаревишной», что явилась ему сказочным, сонным видением, когда проезжал он через Александровскую слободу под Москвой, и о которой говорили с почтительным восхищением и называли «искра Петра Великого», «наша солдатская дочь», «Преображенского полку капитан»…
В этом году по всему Петербургу дивно уродились ягоды. Не было сада на Васильевском или Петербургском островах, где не кипел бы на особом кирпичном очаге в медном, плоском тазу сахарный сироп и румяное от жара лицо молодой петербуржанки не склонялось к нему, наблюдая, как опускаются и поднимаются в нем большие ягоды, пускающие прекрасный то розовый, то малиновый сок.
У Ранцевых вдоль забора с южной стороны в густых кустах бесчисленными длинными кистями, сердоликовыми сережками повисли ягоды красной смородины, их прерывали шпалеры прозрачной, восково-желтой ароматной белой смородины, а за ними висели громадные кисти, точно матовый виноград, черной.
У крыльца пылал в очаге, сложенном из кирпичей, огонь. На очаге под наблюдением Адель Фридриховны закипал сироп. Две дворовые девки и два денщика проворно чистили ягоды, которые им носили в корзинах Рита и Алеша. Вовсю шла варка варенья.
– Ну, довольно, довольно… Довольно, милая Рита, – ласково сказала Адель Фридриховна. – Ты совсем-таки замучила Алексея Григорьевича.
– Замучаешь такого верблюда… Ну да ладно!.. Идемте к качелям. Помните, вы мне пять фантов должны и ни одного еще не исполнили…
Рита в домашней «самаре», с маленькими фижмами, в юбке бледно-желтого цвета, с голубыми васильками по ней, церемонно присела, протянув худенькую руку, согнула ее призывно в кисти и томно, чему-то слышанному и виденному подражая, протянула, сердечком сложив губы:
– Туда!..
И быстро, быстро побежала по березовой аллее к высокому столбу, с которого свешивались толстые веревки. Она села в широкую холщовую петлю, уперлась маленькими ногами в песок и подняла худенький подбородок миловидного лица. В руке у нее был сорванный ею на бегу лист лопуха. Она обмахивалась им, как веером.
– Ска-ажите, – протянула она… Рита видала придворных дам цесаревны, она подглядывала в щелку на ассамблеях и куртагах и усвоила придворные манеры. – Ска-ажи-те?.. Вы умеете бегать на гигантских шагах…
– Нет, Маргарита Сергеевна, не потрафлю… Не учывся…
– Не учывся, – передразнила Алешу Рита. – Разве сему надо учиться?..
– Боюсь об столб шмякнусь… Расшибусь.
– Впрочем, – снизошла Рита к робкому хохлу, – нас мало. Вдвоем трудно бегать. Я люблю, чтобы меня заносили на распашном весле… Высоко, высоко… Выше дома… Вы знаете, мы так высоко летаем, что Неву видно…
– Ось подивиться!… Вы дюже храбрая.
– Послушайте… Сорвите вон ту кисточку.
Рита показала на молодую кисть черной смородины.
– Извольте, сударыня.
– Какая сие смородина?
– Черная.
Брови Алеши поднялись кверху. Прекрасные глаза смотрели с недоумением. Чего еще хочет от него эта лукавая девица?
– Черная?.. Так почему же она красная?
Алеша ничего не понимал. Он молчал, стоя перед Ритой с широко расставленными ногами.
– Потому, сударь, что она – зеленая. Вот и все! – Серебряными колокольчиками рассыпался веселый, задорный смех. Рита соскочила с петли и подбежала к Алеше.
– Становитесь рядом… Так… Вон, в конце аллеи – беседка, там пятнать нельзя… В горелки… Поняли? Слушайте: «Гори, гори ясно, чтобы не погасла… Глянь на небо – птички летят!..» – мерно, размахивая в лад рукою, запела Рита.
Алеша невольно вскинул вверх голову, в тот же миг Рита сорвалась и, мелькая ногами под развевающимся воланом платья, кинулась бежать по аллее. Алеша бежал за нею, раскачиваясь. Куда там – догнать! Догонит вол легкую лань?.. Перед самым носом Алеши захлопнулась стеклянная дверка беседки, потом приоткрылась, и две девичьи руки с ягодным соком перепачканными пальчиками показали ему большой «нос».
– Пожалуй, сударь, сюда.
Дверь открылась. В беседке Рита сидела в кресле, обитом розовым рипсом.
– Сядьте напротив… Вы кто будете? Придворный?.. Придворный?..
– Певчий.
– Так… У вас есть братья и сестры?.. Сестры? Главное – сестры…
– Так… Маю братьев и сестер.
– Маю… Так не говорят… Неисправимый хохол!..
– А вы, Маргарита Сергеевна, москалька, – огрызнулся Алеша.
– У-у, какой! Я вас!.. Императрице пожалуюсь… Я не москалька, милостивый государь мой, а петербуржанка… Извольте сие запомнить, зарубить на вашем прекрасном носу… Итак – «маете» братьев и сестер. Кто да кто?..
– Старший брат Данило.
– Даниил… Так… Потом?..
– Що Кирила.
– Що! Оррер!.. Кирилл. Сестры?.. сестры?..
– Агафья, Анна, Вера…
– Боже, – всплеснула руками Рита. – Целое капральство…
– За что вы мне все говорите поносные и язвительные слова.
– Алексей Григорьевич, я вам не поносные и язвительные слова говорю, но учу вас, молодого, прекрасного хохла, как быть при дворе.
– Я при дворе?.. Но когда же я буду?..
– Но ведь вы – придворный?
– Певчий.
– А!.. Все равно!.. Вы можете попасть в случай. Если цесаревна вас услышит… Она так любит музыку и пение… Вам по-французскому надо учиться.
– Ось подивиться! Куда мне, Маргарита Сергеевна, я и по-русски-то все промахиваюсь.
– Подлинно, промахиваетесь… Я буду вас учить.
– Извольте, Маргарита Сергеевна… Премного благодарствую.
– Не на чем… Будем играть в «провербы».
– Що це такое?.. Николи того не бачив.
– Не бачив… Пусть!.. Впрочем, это вдвоем нельзя. Лучше попробуем в буриме.
У Алеши глаза вылупились.
– Я скажу два слова, а вы на них мне ответите стихом. Четыре строчки. В рифму. Вы знаете, что такое рифма?
– Ну, бачив… Рифма?.. То есть – склад.
– Итак…
По загорелому лбу Риты тонкими паутинками побежали морщинки. Не глубокие морщины старости, а тонкие морщинки ранней юности, когда кожа делает запас для растущего черепа.
– Скажем… Гадалка и купава…
Лицо Алеши стало таким беспомощным, что Рите стало жаль его.
– Гадалка?.. и купава… Гадалка?.. гадалка?.. скажем – прялка… Купава?.. ну – пава, что ли? Нехай буде пава.
– Слушайте, надо, чтобы смысл вышел. Так ничего – только слова, а надо стихи… Слушайте и запоминайте: Однажды мне сказала старая гадалка: «Когда распустится волшебная купава И принесет тебе ее русалка, Ты береги цветок – твоя в нем слава!» Эх, жаль купавы под рукою нет. Я поднесла бы ее вам… Как русалка!
– Ах, як же!.. То ж прямо чудеса!
– Ладно… И менуэт вам надо уметь танцевать, и англез, и аллеман, и кадрилии… Идемте. Дайте вашу руку. Да не так!.. Чуть коснитесь пальцами. Дама вас возьмет. Какая красивая рука!.. И сами вы молодец! Настоящий петиметр!.. Нет, что я, какой вы петиметр?.. Сколько в вас росту?
– У прошлой недели полковник у притолоки мерив. В вашем батьке без двух вершков сажень, Петра Сергеевич трошки помельче буде. Одначе два аршина десять вершков…
– Еще бы, – с гордостью сказала Рита, – первого батальона Преображенского полка! А вы?
– Два двенадцать…
– Тоже здорово!.. Какой же вы петиметр! Вы вельможа!.. Господи!.. Этакий рост!.. Такая красота!.. Вам надо в гвардию записаться. В Конный полк!.. Итак, – Рита, грациозно согнув на локте, опустила руку и концами пальцев приподняла юбку. – Повернитесь лицом ко мне. Первое па: полшага правой и полшага левой ногой. Не так!.. Совсем не так!.. Полшага!.. Пол!.. пол!! пол!!! Мелкий шаг. Теперь – правой ногой… Приподнимитесь на носки!.. Согните ногу… Плавно!.. Не дергайте ее. Под музыку и в ритм… Слушайте: раз, два, три!.. Раз, два!.. Ну, начинаем. Я вам пою… Слушайте такт!.. такт!! Ведь вы же певчий!.. придворный певчий!! У вас же должен быть слух!..
– Так я же лучше вам, Маргарита Сергеевна, на бандуре сыграю менуэт сей самый.
– Ладно, ладно… Теперь пойдем обратно. Слушайте: «Я вас так лю-блю…»
– Верить не могу…
– А, вы мне отвечаете?.. Каков! Сколько в сердце ран…
– Это все обман…
– С русскими словами у вас как-то ладнее идет. Вот тут вам присесть надо, каблуками прищелкнуть… Ну-с, дальше!
– Сердце, что костер…
– Это пламя – вздор…
– Судит пусть ваш дивный взор…
– Ей-богу, правда, по-русски у вас выходит совсем хорошо.
– Дюжа заплутався, Маргарита Сергеевна.
– Не отделаетесь, сударь, коль скоро я за танцы взялась.
– Нет, нет, нет, слова напрасны…
– Быть покинутой ужасно…
Так и шли они менуэтом по дорожке сада, усыпанной желтым речным песком, пока не наткнулись на рослого Преображенского сержанта, вдруг появившегося из боковой калитки.
Сержант был по-летнему, по-домашнему, – в одном белом камзоле с широкими кружевными рукавами, в зеленых штанах, в белых штиблетах и башмаках. Напудренный парик с косой был снят, и темно-русые волосы «по-петровски» обрамляли чистое загорелое лицо, ниспадая до плеч.
– Ну что, готовы? – весело крикнул сержант. – Ты так и поедешь, Рита? Хотя бы пальчики помыла.
– Я в реке ополосну.
– Алексей, тащи бандуру.
Адель Фридриховна принесла Рите суконную, сливочного цвета мантилью и шляпку, денщик подал Петру Сергеевичу голубую епанчу. Шестивесельная полковая шлюпка ожидала их на Мойке. Зимней канавкой шли медленно. Засинели, заголубели широкие невские просторы, показались серые бастионы Петербургской крепости и белое здание собора, за ними зелень садов Люст-Эланта.
Рита сидела на руле, на алой суконной подушке, рядом с Алешей. Она положила «право руля», и шестерка стала плавно поворачивать против течения. Шли вдоль берега. В желтоватую, прозрачную воду глубоко уходили лопасти, и весла гнулись, подавая вперед нарядную темно-синюю, с золотым обводом лодку. Полковой, кормовой флаг развевался за спиной у Риты. Гребцы, преображенцы в алых камзолах, гребли ровно, сильно и мерно.
Набережная косыми рядами бревен плыла мимо них. В пазах, у воды, ярко-зеленой паутиной колебались водоросли. За деревянным, на столбах, забором стояли вплотную, прижавшись друг к другу, высокие каменные трехэтажные дома. Вдоль них, по набережной пешком, на двуколках, в каретах парой, четверней цугом, верхом на нарядных лошадях шли и ехали гуляющие. По Неве то и дело встречались ялики, шлюпки, парусные галиоты и яхты. Все, кто мог, пользовались хорошим теплым летним вечером. Большая двухмачтовая лайба, до самых бортов груженная досками, выбирала якорь, и отпущенный парус на грот-мачте, подтянутый вверху косой райной, полоскался белыми углами.
Пахло водой, смолой, цветущими липами и чем-то неуловимо нежным и свежим, чем пахнет вечерними, летними часами на невской шири. За спиной Алеши и Риты пылала заря. Розовые отблески ложились на камзолы гребцов и на их распущенные, без шляп и кос волосы, колеблемые ветром. Волны покрывались позолотой и певучими струями разбивались о борта лодки.
Тихо проплывал Летний сад в зеленых газонах, где ковровым узором росли цветы. Молодые липы, подстриженные шариками, стояли чинными шпалерами, дубы кудрявились веселой рощей перед петровским Летним дворцом. Его высокие окна пламенели, отражая солнечный пожар. Длинные деревянные галереи в колоннах были по краям и в середине сада. С них к воде спускались лестницы. У пристаней теснились причаленные лодки. В средней галерее в розовом вечернем свете показалась во всей своей таинственной красоте статуя прекрасной Венус, привезенной Петром из Италии. Алеша стыдливо отвернулся от ее дивной наготы. В широкой аллее золотоцветных акаций били фонтаны.
Петр Сергеевич рассказывал, как садили ту или другую аллею, как привозили заморских птиц и зверей в зверинец при Летнем саду, какие где были гроты и статуи.
– Та площадка называется «дамской». На ней сиживала императрица Екатерина со своими дамами в летние жаркие дни, а та, дальше – «шкиперская», там за фонтанами стоит статуя Веры с закрытым лицом, еще дальше за ней будут клетки птичника.
У Литейного проспекта, среди порубленного леса стояли редкие сосны. Их стволы были точно обернуты в золотисто-розовую фольгу. Между ними штабелями лежали тела чугунных пушек – тут был литейный двор. Напротив, на выборгском берегу, рос густой сосновый лес, и там, у реки, на расчищенной площадке правильными рядами белели палатки артиллерийского кампамента. Река загибала на север. Уставшие гребцы гребли по очереди. Алеша звенел струнами на бандуре и пел нежным тенором про Палия и Мазепу:
Пише, пише та, гетьман Мазепа,
Ой, до того недиждав.
Щоб я свою православну виру
Тай пид ноги подтоптав.
Рита сидела, опустив руку в воду и не управляя лодкой. Большие светло-голубые глаза смотрели вдаль, на восток, где изумрудно было небо и где в вышине стадами-табунами, перламутровыми раковинами застыли над холодеющим небом прозрачные облака-барашки.







