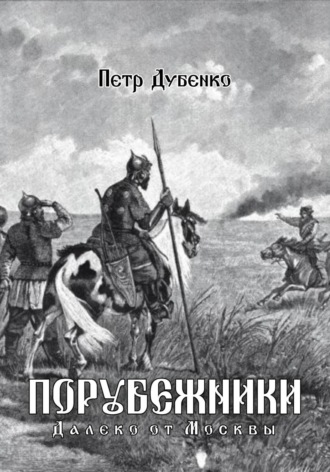
Петр Викторович Дубенко
Порубежники. Далеко от Москвы
Глава четвёртая
К полудню 20 октября на лобном месте детинца собралось семьдесят два дворянина. Каждый за плечами имел много лет службы на денежном окладе: непрерывные мытарства, казённые углы, скудная кормёжка и вечно недовольное семейство. Потому сейчас, когда они оказались в Белёве, где у государевой казны появились новые свободные угодья, разговоры шли только об одном – земля. Сто четей пашни. Какие они будут, где их нарежут московские рядцы, сколько смердов насчитает сельцо, каково окажется хозяйство, и как пойдут дела. В том, что пойдут они хорошо, никто не сомневался. А как может быть иначе, ведь не зря же так долго ждали.
– Первым делом в усадьбе все дорожки замощу, чтоб про грязь забыть. – мечтательно рассуждал десятник Авдей Жихарь. Как-то раз татарская стрела угодила ему чуть выше колена, зацепив бедренную кость. Рана зажила, но с тех пор от любой сырости правую ногу сверлила нудящая боль. – На службе, в походе оттерплюсь, тут уж чего. А дома нет, не желаю. Всё замощу.
– Да ну, одощатить сподручней будет. Дешевше, опять же. – не соглашался Андрей Развалихин, вечно всё сводивший к подсчётам. – Досок наколол – вот тебе и мостовая.
– Нет уж, братец. – стоял на своём Жихарь. – Доска чего? Сгниёть. А каменюкой замостить навечно. Так что пусть дорого, но мостить буду. Вот ты как думашь, сотник?
Авдей повернулся к дворянину, который сидел на перилах гульбища, свесив короткие, чуть кривые ноги и плечом навалившись на опорный столб навеса. На безбородом скуластом лице выделялись большие прозрачные с лёгкой зеленью глаза, что смотрели на мир с печальной мудростью человека, который за неполные тридцать лет повидал столько, что иным хватило бы на девять жизней. На самом деле сотником он не был. Просто три месяца назад их голова погиб в бою и с тех пор десятник Никита Шелгунов нёс это бремя на себе, поскольку никто из товарищей не возражал.
Вместо ответа Шелгунов печально вздохнул. Перед его мысленным взором чередой промелькнули четырнадцать лет службы. Как жил на узлах без постоянного угла, а порой и вовсе без крыши над головой. Как возил с места на место сначала беременную, а потом только что родившую жену. Как потерял из-за этих переездов первого ребёнка, застудившегося, когда ночевали в поле. Как из-за безденежья не похоронил по-христиански, а просто закопал в чужой земле умершего отца, который тоже тянул лямку служилой жизни от рождения до дряхлой немощи.
– Да уж, сполна хлебнул, чумичкой36. – невпопад сказал Никита, но тут же просветлел лицом и мечтательно улыбнулся.
Ныне дело шло к счастливой перемене. Теперь за многолетнюю верную службу ему обещали дать поместье в сто четей плодородицы. Как в сказочных грёзах, что Шелгунов с малого детства лелеял в душе под рассказы отца, который помещиком так и не стал. Да и сам Никита иногда, в особенно трудное время, терял надежду. Но вот ведь – дожил и уже сегодня получит вожделенный надел.
– А я первым делом конюшню слажу. – отозвался Демьян Рогожин, известный лошадник. Он сидел на завалинке, спиной привалившись к бревенчатой стене и, подняв голову, мечтательно следил за плавным ходом белоснежных облаков. – И сеновал. Непременно большой сеновал. О прошлый год по бескормице казённой коня потерял. А было б поместье, да сеновальчик, так по сю пору ходил бы подо мной Каурка. А так… Кормить нечем было, вот и пришлось под нож пустить, чтоб лучшим другом детей накормить. А какой конь был, э-э-эх… Вы такого коня отродясь не видали.
– Ха, не видали мы, сказал тоже. – вмешался в разговор Мирон Насекин, снискавший в сотне славу забаутника37. Худощавый и вёрткий, с подвижным лицом и беспокойными руками, он вскочил на ноги, чтоб оказаться выше всех. – Я как-то раз в бою такого коня взял. Вот это был да. Что ты!
– Ну-ка. – всерьез оживился Рогожин, который терял покой, едва речь заходила о лошадях.
– Давай-ка, поведай, что за чудо-конь. – поддержал Авдей Жихарь, с улыбкой тыча локтём в бок Развалихина.
– У-у-у-у! – Мирон закатил глаза. – Как гарцевать учнёт – сказка. А летал как? Что на крыльях. Земли не касался. Как-то раз один мурза ногайский узрел, так что банный лист прилип, не отвадишься. Уступи, деи, что хошь бери. Вот что попросишь, то и отдам. Ну я тоже ни в какую. Мол, самому нужон. В ратном деле добрый конь полжизни стоит. Так он, мурза энтот, до того загорячел, весь гарем, деи, забирай. Мол, на что мне энти глупые бабы. Во как. А бабы-то у него не простые, ясно дело. Лучших пород. Мурза, никак, понимать нужно. И он мне дюжину энтих баб ну чуть не силком пихает.
– Да уж скажи – сотню… Чего жмёшься-то? – с усмешкой вставил Гришка Ладыжников, без замечаний которого не обходился ни один рассказ Насекина. – Али остальных на следующий раз приберечь решил?
– Ты… Знаешь… – возмутился Мирон и покраснел, но никто не мог сказать точно, по какой причине. От стыда, что его уличили в бессовестной выдумке, или от гнева на то, что мешают вещать святую правду.
– И-то верно, Гришка. – Шелгунов неожиданно вступился за Насекина. Но не успел Мирон благодарно кивнуть и продолжить рассказ, как Никита добавил со сдержанной усмешкой. – Не хочешь слушать, как люди врут, так сам ври, давай!
– Ну, н-е-е-ет. – Ладыжников замахал руками. – Здесь уж мне куда? Миронка у нас врёт, что шёлком шьёт. Гладь знатная выходит. Мне так не под силу.
Тут уж насмешки стали сыпаться со всех сторон.
– Уж коли Насекин врать станет, ни пеший, ни конный не догонит.
– Он разве что невзначай правду молвит, по случайности.
– Да пошли вы в таком разе… Все скопом! – вспылил Мирон, но едва в ответ грянул дружный смех, и сам улыбнулся. – Будто для себя стараюсь. Сами же пристали. Расскажи да расскажи. А я чего? Врать не пахать – было б кому слушать. Как говоритси, всякая прибавка хороша с прикраской. Коли не солгашь, так и не продашь. Так-то, олухи. Боле ничего от меня чего услышите, чёрта лысого.
– Ой ли? Побожись.
– Ох, братцы, икону неси. Да спехом. Не то упустим случай.
– Ага, не услышим. – продолжал поддевать Ладыжников. – Поклялась свинья дерьма не жрать, да вдруг бежит – а его целых два лежит.
– Ладно, на себя глянь. Будто не знаем, каков ты безгрешнец. – беззлобно огрызнулся Насекин и тут же встрепенулся, что-то вспомнив. – Ой, братцы, смех какой был. Как-то раз пентюх этот по шалому забежал на двор к вдовушке одной. Та в крик. А этот, чтоб ты думал?
– Ну вот, говорил же, пущай божится. – Гришка Ладыжников с наигранной досадой всплеснул руками и тут же подавился сдержанным смехом.
За ним прыснул Никита Шелгунов, и скоро лобное место опять потонуло в громком хохоте полсотни человек. Правда, он тут же смолк. На просторном гульбище появился московский подьячий с длинным пергаментом в руках. Рядом с ним стоял невысокий коренастый дворянин в старой чуге с заплатками на локтях и пушистом лисьем малахае. Чиновник дождался, пока стихнет ропот, и заговорил по-хозяйски уверенно.
– Ну что, собрали́сь, бездельнички? Готовы верстаться? – Дружный возглас одобрения громом прокатился над детинцем. Подьячий жестом подозвал Фёдора. – Вот это отныне сотный голова ваш, Фёдор Степанович Клыков. Под ним служить будете.
Клыков смущённо откашлялся, торопливо сдёрнул с головы шапку, не зная, куда её деть, стал нервно мять в руках.
– Из каких же будешь? – настороженно спросил Жихарь. – Не серчай, но что-то не похож ты с нашим братом.
– Из послужильцев я. – честно признался Фёдор, и по толпе дворян пошёл недовольный шёпот.
– Это что ж выходит? – высокий голос Демьяна Рогожина перекрыл общий ропот. – И здесь княжьи холуи нас обскакали?
– В походах им всюду само лучше место достаётся. – поддержал его Развалихин. – Как бой – так нам в пекло, а как хабар брать – так им напервой.
– На что нам в головы чужак, да ещё из княжеских?
– Что у нас, своих, что ль, нет, кто в головы годен?
– Верно. Вон, Никита Шелгунов уж сколь сотничал, пущай и дальше он.
Фёдор слушал всё это спокойно. Он прекрасно знал, что точно так же, как послужильцы презирают дворян, те не переносят на дух послужильцев. Всё это началось так давно, что теперь уже никто не ведал истинных причин. Но от предков по наследству получая эту неприязнь, потомки легко находили для неё свои резоны. Потому Клыков и не ждал любезной встречи. Он был готов к упрёкам и теперь, хладнокровно позволив дворянам спустить пар, ответил уверенно и твёрдо:
– Да, верно, прежде я у князя в службе был. Однако ж ратно дело, оно, с какого боку ни гляди, всё одним цветом отливает. Красным, по крови. А послужилец послужильцу рознь. И я хоть из княжеских людей, а с нынче их люблю не больше вашего. – Фёдор выждал, без страха глядя на молчавших дворян. – Я вам в головы не сам встал, а царём поставлен. А коли так, любить не прошу, а всяко жаловать придётся.
– Вот это верно сказано. – поддержал его чиновник. Он строго погрозил пальцем и даже топнул ногой для пущей острастки. – А то ишь, гляди, взъерошились! Чего возомнили? Вы царёво войско. А кто шибко своеволен, так путь чист. Пущай ступает дале на денежном окладе жить. Уразумели?
Дворяне притихли. Речь Фёдора их не слишком убедила, но вот угроза подьячего остудила даже самых дерзких. После стольких лет ожиданий никто не хотел остаться без поместья из-за глупого упрямства. А чужак? Ну так что ж, это не впервой. Сколько их было таких, чванливых, важных, гонористых. Сгинет в первой же стычке и всех дел.
– Ладно, братцы, хорош булга́читься38! – По ступенькам на гульбище легко взбежал Никита Шелгунов. – Цыплят, их ведь по осени считают, верно? Так что поглядим, каков Фёдор Степанович в деле, там и видно будет. А покуда неча бузу разводить.
Фёдор в благодарность едва заметно кивнул Шелгунову, тот в ответ лишь равнодушно усмехнулся – не ради тебя, мол, старался.
– Десятники есть средь вас? – выкрикнул подьячий, спеша увести разговор в другое русло. На гульбище к Шелгунову молча поднялись Жихарь, Развалихин, Насекин, Демьян Рогожин и Гришка Ладыжников. Окинув их беглым взглядом, чиновник разочарованно вздохнул. – Маловато будет… Нынче семьдесят два дворянина обверстаем. Так что ещё один надобен. Фёдор Степанович, ставь, коли ты сотник.
– Разберёмся, поглядим. – уклончиво ответил Фёдор. – Не спехом дело спорится, а толком. Где я нынче доброго десятника возьму, коль не знаю никого?
– Положено так. – мягко настоял подьячий.
– Ну, коли положено… – Клыков побежал взглядом по толпе и вдруг удивлённо округлил глаза. – О, Кудеяр. А ты здесь каким ветром?
Осторожно раздвинув переднюю шеренгу, из людской гущи вышел Тишенков. Смущённо пряча глаза, он шагнул на первую ступеньку лестницы, но дальше не пошёл.
– Да вот, Фёдор Степанович, тоже одворяниться хочу. – Едва слышно признался он, не поднимая головы.
– Вот тебе раз. Это как же?
Кудеяр промолчал. Ибо как объяснить, что затея с конями, ради которой он ушёл от князя, рассыпалась в прах, даже не успев начаться? Ведь местный ростовщик запросил лихву в полную сумму каждый месяц. То есть, взяв сейчас десять рублей серебром, на исходе ноября Тишенков должен был отдать уже двадцать. А если бы пришлось просить отсрочку, к концу декабря долг вырос бы до сорока. При таких раскладах торговля жеребцами теряла всякий смысл, но Свист про это даже слушать не хотел и твёрдо стоял на своём: либо Кудеяр платит за коней вперёд, либо барыш делить будут в семь долей шайке против трёх Тишенкову. Так что предстояло либо влезать в кабалу, с которой не расплатиться, либо изыскать способ надавить на Свиста, чтобы он пошел на уступки.
– Так что же, Фёдор Степанович. – Кудеяр наконец-то смог посмотреть на старого товарища по службе, с которым так нехорошо расстался два месяца назад. – Замолвишь слово за меня? Али как?
Фёдор колебался. Он, как и все послужильцы Белёва, недолюбливал Кудеяра. Уж больно тот был себе на уме, всегда держался в стороне от общих дел, а за общим столом на пиру не сиживал и подавно. Так что, будь его воля, Клыков гнал бы Тишенкова поганой метлой до самых ворот. Но сегодня утром в разговоре с ним князь Горенский в который уже раз сетовал на то, что все ратники Белёва ушли от государевой службы в Бобрик. Пётр Иванович твёрдо знал: того, кто допустил такое, Москва не похвалит, потому готов был заплатить любую цену, лишь бы заполучить в придачу к бывшему десятнику Клыкову хотя бы ещё одного, пусть тоже бывшего, послужильца. Так что Фёдор отогнал свои сомнения и обратился к подьячему:
– Ну, коли так, вот и седьмой десятник сыскался.
Чиновник согласно кивнул и что-то быстро записал в свои бумаги. Потом передал их писарю, а сам вышел на край гульбища. Оказавшись над толпой дворян, замерших в нетерпеливом ожидании, подьячий не спеша оправил кафтан, любовно пригладил соболиный мех шапки и откашлялся.
– Ну вот что, братцы. Сегодня верстаться будем, и сразу вам первая служба. Из Москвы приказы едут, да чиновный люд всякий. Пушкари, опять же, со стрельцами. Их всех размещать надобно и для того детинец освобождать от всякого будем. Ибо детинец есть цитадель городская, то бишь воинское место. И коль скоро ратным делом отныне князь Горенский ведает, стало быть, и в детинце распоряжаться он станет, а не волостель. Так что завтра же с утра всех бывших послужильцев, что к Бобрикову на службу ушли, из домов вон. Коль им служба при князьях больше любится, пущай и едут в Бобрик тогда. В государевых местах им отныне места нет.
Глава пятая
В полдень 28 октября в белёвский детинец въехал обоз из десятка телег. Передней правил Иван Пудышев, остальными – мужики из Бобрика. Миновав Болховскую башню, вереница повозок проползла по единственной улице, под грохот деревянных колес пересекла мощёное камнем лобное место и длинной цепью растянулась вдоль послужилых домов. Сразу же застучали двери, калитки и ворота. Со дворов посыпался народ: женщины, старики и дети. На обочине появились горы из мешков и узлов с вещами; в ряд строились берестяные короба и туеса; в придорожной грязи среди пожухлых сорняков и мутных луж непривычно и странно смотрелись сундуки в металлических набойках по углам, с резным узором на боках или потёртой росписью на крышке.
Все пожитки Иванова семейства уместились в два холщовых тюка и большой дощатый ларь, на котором обычно спал Афанасий Иванович. Старик и сейчас отказался покидать привычное место и, по-турецки сидя сверху, зябко кутался в старый армяк и беспокойно озирался. По временам он сокрушённо тряс почти лысой головой с жидким клочком бородёнки и повторял одно и то же:
– На кой дался этот переезд?
Подслеповатые глаза слезились, и старик часто тёр их кончиками узловатых пальцев. От этого движения армяк, наброшенный на плечи, сползал, и тогда стоявшая рядом Марья поправляла его, снова укрывая сухое старческое тельце. А в ответ свекр, глядя на нее с упреком, повторял одно и то же:
– Ну вот на кой дался этот переезд?
Марья ничего не отвечала – она и так едва держалась, чтобы не заплакать. Справа от матери в испуганном молчании замерла старшая дочь Анна. Слева, ручонками вцепившись в подол, за всем происходящим с неподдельным детским восторгом наблюдала Настенька.
Остановив коня, Иван сошёл с телеги.
– Ну как, готовы? – спросил он, не поздоровавшись, избегая смотреть на жену.
– Ты, Ванюшка, главно не забудь для матери весточку оставить. – наставительно прошамкал беззубым ртом Афанасий. – Чтоб, как вернется, сыскать нас смогла. Понял?
– Ну как же забыть, бать? Не тревожься.
Наконец Иван набрался смелости и посмотрел на жену. За минувшую неделю Марья побледнела и осунулась, так что лицо её теперь напоминало восковую маску. Глаза запали и потускнели, их когда-то бездонная синь стала пасмурно-серой, как осеннее небо перед дождём. Под веками очертились тёмные круги. Поймав не себе виноватый взгляд мужа, женщина ободряюще улыбнулась, но по щеке тут же побежала слеза, и Марья поспешила отвернуться. В груди Ивана сжалось и больно кольнуло. Ох, если бы прямо сейчас разверзлась земля, и он провалился в прямо к черту в пекло, это было бы лучше, чем видеть все, что творилось вокруг.
– Грузитесь. – тихо произнёс он и бросил в телегу оба мешка.
Иван взял на руки отца – костлявое тело было почти невесомым – и бережно усадил его на соломенный тюфяк, который жена расстелила на дощатом дне повозки. Покончив с этим, Иван подошёл к сундуку, примеряясь, как бы одному втащить его в телегу. Он уже подсунул руки под дно, с натужным хрипом приподнял огромный ящик и несколько шагов проволок его по земле, когда из ворот соседнего двора появился Фёдор.
– Здорово, Вань. – смущенно сказал он и взялся за верёвочную ручку на боковине. – Давай, пособлю.
Пудышев бросил сундук, распрямился и поставил длинную худую ногу на крышку.
– Благодарствую, ты уже помог. – зло бросил он и сплюнул под ноги Фёдору. – Сказывали, ты нынче сотник? В гору идёшь. А не спрашивал у москвичей, что надобно сделать, чтоб воеводой стать? Может, весь посад выселить?
– Так говоришь, будто на то моя воля была. – возразил Клыков, но говорил он неуверенно и тихо.
Умом понимая, что в случившемся нет его вины, в душе Фёдор всё же ощущал себя предателем и трусом. И чтобы оправдаться в собственных глазах, вдруг заговорил со злым укором.
– Покуда я в застенке был, ты тоже не спешил на выручку. Так что…
– Так что квиты, стало быть, да? – с кривой ядовитой усмешкой перебил Иван. – Посчитался ты со мной. Доволен нынче?
Клыков не выдержал колючего взгляда друга. Отвернулся, но на свою беду тут же глазами встретился с Марьей. А та смотрела без упрёка, наоборот, с мягкой кроткой жалостью, отчего у бывшего соседа защемило сердце. Внезапно, он вспомнил, что перед выходом, зная, что встретит всё семейство, специально положил в карман домашней одежды малиновый леваш – любое лакомство Насти. Спохватившись, Фёдор достал маленький свёрток и подошёл к телеге, но не успели обе девчонки по-детски просиять при виде угощенья, как Иван перехватил руку Клыкова и до побелевших пальцев сжал запястье.
– Ну вот ещё не хватало. – процедил Пудышев сквозь зубы и резким движением сбросил с плеча руку Марьи, которая пыталась успокоить мужа. – Уж не голодные. Без подачек от тебя не сдохнут.
Фёдор тоже вскипел. Потянул предплечье так, что рука Ивана вывернулась, и он против воли разжал пальцы. Клыков отшвырнул раздавленный леваш. Сладость с плеском упала в глубокую лужу, по грязной воде пошли круги, и от малиновой начинки расплылось красное пятно.
– Ну, коли так… – сдавленно прорычал Фёдор. – Приказы ждут, освобождай жилище. Да не тяни, гляди. Кто до обедни сам не сможет, того в плётки гнать велено.
Клыков резко развернулся и зашагал к терему, на углу которого, рядом с пристройкой поварни, уже толпилось три десятка дворян. Без доспехов, но при оружии. Пудышев смотрел вслед другу, и кулаки его разжимались сами собой, а жгучая злость в глазах уступала место бессильной печали.
– Ладно, тянуть и правда неча. – тихо сказал он, скорее сам себе.
Повернувшись к дому, Иван прочитал короткую молитву, перекрестился трижды и поклонился в пояс. Возница стоявшей рядом телеги подоспел на помощь, и вдвоем они затолкали сундук на повозку. Улица зашевелилась, гружёный обоз тронулся с места и под жалобный скрип плохо смазанных осей потянулся на выезд из детинца.
Чтобы успеть в Бобрик к закату, дорогу в двадцать две версты прошли разом, с одним коротким привалом. Город показался уже в первых сумерках, когда на одном краю земли ещё пылал багряный закат, а на другом небо уже резал узкий серп луны. Слабый свет с оттенком перламутра заливал полоску земли между маленькой речушкой, что тускло серебрилась на дне пологого оврага, и глубокой сухой обрывистой балкой.
Ещё на въезде в Бобрик, у посадского моста, переселенцев встретил караул. Одного охранника отправили с известием вперед, так что когда караван телег въехал в детинец, там уже собралось два десятка домашних княжеских холопов во главе с огнищным тиуном. Захар Лукич с ужасом смотрел на прибывших и думал, где разместить, чем накормить ораву в сотню ртов.
Выгружаться стали уже в темноте. Илья Целищев, кряхтя и надрывно дыша, снимал с телеги большой сундук, куда уместилось всё добро большого семейства. Роман Барсук первым делом помог сойти на землю беременной жене, затем стал ссаживать пятерых детей – один другого меньше. Платон Житников, ворча, в кучу сбрасывал мешки с вещами, а рядом Ларион Недорубов заботливо укладывал ящик, в котором хранились кольчуга, шлем, сабля и два кинжала.
Марья, с непривычки разбитая долгой тряской, отдуваясь и тихо постанывая, уложила в кучу оба узла и усадила на них полусонных дочерей. Иван помог спуститься отцу, который проспал всю дорогу, а проснувшись, первым делом спросил, знает ли Ульяна Никитична, что они будут ждать её здесь. Пудышев не ответил, только вздохнул.
Бобрик ему не нравился с первого дня. Посад казался бестолковым и кургузым— словно великан забавы ради впихнул на тесный пятачок как можно больше маленьких избушек, а детинец, на прикидку раза в три меньше белёвского, был застроен так плотно, что среди его нагромождений Иван не мог свободно дышать. Пока Бобрик оставался просто приграничной крепостцой, где он просто нёс службу вдали от дома, Иван не слишком беспокоился об этом. Теперь же, когда судьба занесла сюда семью, всё виделось иначе. Но даже неустройство здешней жизни отступило под напором других мыслей. Из-за реки ветерок приносил терпкий дух полыни пополам с вонью горелой травы. Для порубежников это был знакомый запах Дикого поля, запах беды, которая теперь всегда будет рядом. Белёв, конечно, тоже не Вологда с Белоозером, где татар видели редко, но всё же и не самый рубеж, где жизнь со смертью ходят бок о бок.
– Где размещаться-то будем? – спросил Иван у Тонкого, и тот кивнул куда-то в глубь детинца.
– Бобка! – Сидор взглядом отыскал младшего дружинника и скомандовал. – Веди новосёлов. И помоги Ивану Афанасичу устроиться.
Юный Замятин, донельзя довольный тем, что получил задание лично от Тонкого, с готовностью подхватил один из тюков и резво зашагал к старой конюшне, что последние лет пять служила складом для всякого хлама, который не годился к делу, но выкинуть его всё равно было жалко. Теперь он огромной горой громоздился у открытых ворот в торце барака. Внутри было сыро и зябко, из конца в конец сквозного коридора потоком гулял ветерок с запахом навоза и застарелой конской мочи. Семьи белёвцев расселили по денни́кам, разделённым переборками высотой чуть больше двух аршинов, так что соседи при желании могли бы заглянуть друг к другу.
Пудышевым достался особый денник в торце. Прежде там держали беременных и только что ожеребившихся лошадок, оттого помещение было заметно свободней, теплее и соседи имелись только с одной стороны. Обустройство заняло весь вечер, и только к полуночи Марья смогла, наконец, присесть на кучу прелой соломы, что заменила супругам постель. Отец Ивана, накрытый армяком и старой конской попоной, тихо сопел в долблёном корыте бывшей кормушки. В дальнем, самом тёплом углу всё на тех же узлах спали девчонки. В центре новых хором разместился сундук, который отныне служил семейству столом. На нём стоял небольшой чугунок с пшённой кашей и кусок варёной тыквы вместо хлеба – скромный ужин под конец уборки принёс снова посланный Тонким Бобка Замятин, но к еде никто не притронулся.
Хотя с самого утра Ивану в рот не попало и маковой росинки, а всё же кусок не лез горло, так что пару раз ковырнув кашу ложкой, он отложил ее и, выйдя из-за стола, присел на соломенный ворох, с усталым вздохом вытянул гудевшие ноги. Марья бесшумно опустилась рядом.
– Ну чего ты? – ласково спросила она. Её маленькая ладошка легла на жилистую ручищу мужа. – Ничё, ничё. Не в чистом поле ведь. Да и свои, опять же, рядом.
Иван кивнул и, чтобы не выдать истинных чувств, попытался улыбнуться. Вышло криво, жалко, и Марья, вдруг простонав, подалась вперед, прижалась к Ивану, положила подбородок на узкое костлявое плечо, влажной от слёз щекой прижалась к колючей щетине. И прошептала, едва сдерживая всхлип.
– Не вздумай, слышишь. Мне одна опора только. Ежели ещё и ты подломишься, хоть сразу в гроб.
Чувствуя, как Марья затряслась в рыданиях, Иван закусил губу, чтоб не заплакать самому. Обхватил жену свободной рукой и прижал к себе. Так они и просидели, пока над детинцем Бобрика не разлетелась утренняя песня петуха.


