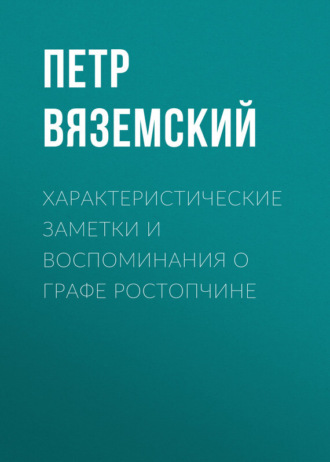
Петр Вяземский
Характеристические заметки и воспоминания о графе Ростопчине
Отрывок его: «Последний день Екатерины II и первый день царствования императора Павла», это яркая, живая, глубоко и выпукло вырезанная на меди историческая страница. Не знаю, оставил ли он по себе поденные памятные записки свои; но, если они были написаны таким мастерским пером, как вышепомянутый отрывок, с тою же живостью и трезвостью, то нельзя не позавидовать потомкам, которые, в свое время, могут прочесть эту книгу.
Монархист, в полном значении слова, враг народных собраний и народной власти, вообще враг так называемых либеральных идей, он с ожесточением, с какою-то мономаниею, idee fixe, везде отыскивал и преследовал Якобинцев и Мартинистов, которые в глазах его были те же Якобинцы. Когда в 1812-м году Жуковский поступал в ополчение, Карамзин, предвидя, что едва ли выйдет из него служивый воин, просил Ростопчина прикомандировать его к себе. Ростопчин отказал, потому что Жуковский заражен Якобинскими мыслями. К слову пришлось: скажу, что и я подвергся такому же подозрению. В одном письме его нашел я следующую заметку о себе: «Вяземский, стихотворец и Якобинец». А между тем, в нем самом, при данном случае, мог бы народиться народный трибун. В нем были к тому и свойства, и замашки. Его влекло к черни: он чуял, что мог бы над нею господствовать. Мысли в слух на Красном крыльце и так называемые Московские афиши могут подтвердить подобное предположение. В них речь обращается почти исключительно к народу, то есть к той среде, которая у Французов называется populace, a у нас должна называться чернь. Действие этих афишек было различно оценяемо в Московском обществе. Жуковскому они нравились; Карамзин читал их с некоторым смущением; хотя и Якобинец по приговору Ростопчина, я решительно их не одобрял, и именно потому, что в них бессознательно проскакивали выходки далеко не консервативные. Мне тогда казалось, как и ныне кажется, что правительственным лицам, в каких бы то обстоятельствах ни было, не следует обращаться к толпе с возбудительною речью. Во-первых толпа редко принимает и понимает их в том значении и в тех пределах, в которых они сказаны; толпа всегда готова перейти за эти пределы. Во-вторых это – подливать горячее масло на горючие вещества, а в таких веществах нигде нет недостатка. Разумеется, в этих афишах или, так сказать, приказах по Москве, было много и хорошего и к цели идущего, то есть, к сохранению спокойствия в столице; но бывали и обмолвки, которые могли прямо нарушить это спокойствие. В одной из афиш смеется он над мужьями, которые в виде будущих (выражение, употребляемое в подорожных) выезжают с женами своими. Смеяться тут нечего. Нельзя требовать поголовного героического населения. Выезжать из города, угрожаемого неприятельским нашествием, дело довольно обыкновенное и благоразумное [2]. В другой афише сказано (пишу с памяти, но, если не буквально, то приблизительно верно): «хватайте в виски и в тиски и приводите ко мне, хоть будь кто семи пядей во лбу; справлюсь с ним». Эти семь пядей во лбу никого иначе означать не могут, как дворян, людей высшего разряда. После такой уличной расправы недалеко и до смертоубийства, особенно если семи-пяденный станет отбиваться и защищаться. Многие кровавые государственные перевороты происходили из подобных неожиданных столкновений. Москва от копеечной свечки сгорела, говорит народная поговорка. Русский Бог, позднее, не спас ее от пожара; по, по крайней мере, до пожара спас он ее от междоусобицы и уличной резни. Впрочем некоторым даром не обошлось. Довольно немцев поколотили, под предлогом, что они шпионы; были и русские жертвы. Дворянин (кажется Чичерин) был признан толпою за шпиона и крепко побит за свое запирательство; а запирательство его заключалось в том, что он был глух и нем от рождения.







