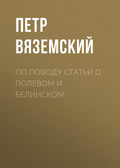Петр Вяземский
Сонеты Мицкевича
Извиняться ли мне перед читателями за длинное отступление? Написанного не вырубить топором, говорит пословица, а особливо же если топор в руке авторского самолюбия. На всякий случай предоставим вырубку секире критики, а сами обратимся к сонетам, как будто ни в чем не бывало. Отрывков отдельных стихотворений раздроблять не должно: лучший отчет состоит в представлении самых документов, подлежащих суду. Так мы и сделаем, тем более что, когда дело идет о произведении иностранном, мы можем судить единственно о достоинстве в целом. Подробности ускользают от близорукости иностранцев. Основываясь на этом правиле, перевели мы только два сонета из первого отделения, потому что главное достоинство стихотворений, в нем заключающихся, должно состоягь в способе выражения, в прелести, так сказать, не переносной, а особливо в прозу. Возьмитесь, например, перевести в иностранную прозу некоторые из коротких, но жизни исполненных элегий Баратынского? Вы распустите живописное и яркое шитье искусной золотошвейки. Крымские же сонеты все переведены нами, потому что в каждом из них более или менее встречаются красоты безусловные, целые. Может быть, некоторым из русских читателей, вообще довольно робких и старообрядных, покажется странным яркий восточный колорит, наведенный на многие из сонетов. Заметим для этих северо-западных читателей, что поэт переносит их на Восток и что, следовательно, должны они вместе с ним поддаться вдохновениям восточного солнца, что наивосточнейшие сравнения, обороты вложены поэтом в уста мирзы, который проводник польского пилигрима, и еще, держась мнения, изложенного выше, напомним, что некоторый отблеск восточных красок есть колорит поэзии века, что кисти Байрона, Мура и других первоклассных поэтов современных напоены его радужными переливами. Мы сами почти готовы сознаться, что в иных местах, хотя и очень редко, польский поэт увлекается в выражениях и сравнениях своих гиперболическою смелостью, сбивающеюся на дерзость в глазах нашего гиперборейского благоразумия, что в некоторых уподоблениях, и оборотах, встречается у него что-то похожее на принуждение, на изысканность; но самые, по-видимому, насильственные уподобления выкупаются верным выдержанием до конца и во всех частях, как, например, в первой строфе 8-го «Крымского сонета». Этим способом поэт дает отчет в своей смелости, и читатель, пораженный с первого раза неожиданностью, убеждается постепенным ее развитием и приучается к ней. Кажется, за исключением не всегда довольно строгой экономии в употреблении смелых фигур и оборотов, критике остается только похвалить в польском поэте богатство, роскошь воображения, сильное и живое чувство поэтическое, которое у него везде выдается и в верном, свежем выражении переливается в душу читателя: мастерство необычайное, с которым умел он втеснить в сжатую раму сонета картины во всей полноте красоты их разнообразные и часто исполинские. Не беремся судить, всегда ли слово, употребляемое им, верно и, вместе с тем красиво, но и вчуже чувствуем, что оно выразительно и живописно, а это главное: на красивость, как и на все относительное, бывает пора. Иное слово, которое было в употреблении у народа в старину и ныне отброшено тиранством употребления, может со временем отыскать свои права на уважение. Аббат Галиани справедливо обвиняет Вольтера за лексиконские и грамматические примечания его на Корнеля, в которых уличал он трагика, что такое-то слово, такое-то выражение, употребленное им, неправильно по-французски. «Также было бы глупо уверять меня, – прибавляет аббат, – в своенравном движении полуденной живости, что Цицерон и Виргилий, хотя итальянцы, не так чисто писали по-итальянски, как Боккачио и Ариост. Какое дурачество! Каждый век и каждый народ имеют свой живой язык, и все равно хороши. Каждый пишет на своем. Мы не знаем, что поделается с французским, когда он будет мертвым языком; но легко случиться может, что потомство вздумает писать по-французски слогом Монтаня и Корнеля, а по слогом Вольтера. Мудреного тут ничего бы не было. По-латыни пишут слогом Плавта, Теренция, Лукреция, а не слогом Пруденция, Апполинария и прочих, хотя римляне, без сомнения, были в IV веке более сведущи в астрономии, геометрии, медицине, литературе, чем во времена Теренция и Лукреция. Это зависит от вкуса, а мы не можем предвидеть и угадать вкус потомства, если притом будет у нас потомство и не вмешается в это дело общий потоп».