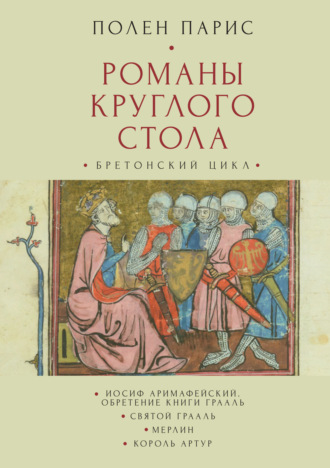
Полен Парис
Романы Круглого Стола. Бретонский цикл
IV. О латинской книге Грааля и о поэме про Иосифа Аримафейского
В начале примем как факт, доказательства которому нам придется привести позднее, что пять повествовательных сюжетов, образующих исходный цикл Круглого Стола, хоть и объединялись обычно в старинных рукописях, но были написаны раздельно, без первоначальных намерений согласовать их друг с другом. Как ныне очевидно, эти повествования были расположены в видимом нами порядке собирателями (да будет позволено мне это слово), которые, чтобы устранить несоответствия, связать их воедино, были вынуждены сделать довольно много вставок и добавлений.
Святой Грааль и Мерлин, вероятно, появились первыми. Второй автор создал книгу об Артуре, которую собиратели объединили с Мерлином. Третий написал Ланселота Озерного; четвертый – Поиски Святого Грааля, которым дополнил предыдущие сказания.
Эти книги, сочиненные в довольно близкие эпохи, вначале были переписаны в немногих копиях, по причине их длины и отказа духовных лиц принимать их в свои церковные хранилища. Лишь у владетельных особ кое-где попадался переписанный для них экземпляр, и редко кто обладал всеми сразу. Гелинанд[70], чья хроника завершается 1209 годом, упомянул о них только понаслышке, а Винсент из Бове[71], который донес до нас эту хронику, включив ее в Speculum historiale, похоже, знал их ничуть не лучше. Вот в чистом виде слова Гелинанда:
«Anno 717. Hoc tempore, cuidam eremitae monstrata est mirabilis quaedam visio per Angelum, de sancto Josepho, decurione nobili, qui corpus Domini deposuit de cruce; et de catino illo vel paropside in qou Dominus coenavit cum discipulis suis; de qua ab codem eremita descripte est historia quae dicitur Gradal. Gradalis autem vel Gradale dicitur gallicé scutella lata et aliquantulum profunda in qua pretiosae dapes, cum suo jure (в их напитке), divitibus solent apponi, et dicitur nomine Graal… Hanc historiam latiné scriptam invenire non potui; sed tantum gallicé scripta habetur à quibusdam proceribus; nec facile, ut ajunt, tota inveniri potest. Hanc autem nondum potui ad legendum sedulò ab aliquo impetrare».
[В году 717. В то время одному отшельнику явлено было ангелом чудное видение, святой Иосиф, благородный декурион[72], снявший с креста тело Господне; и та миска или блюдо, из коего Господь вкушал со своими учениками; о чем написана история в книге отшельника, называемой Gradal. Gradalis же или Gradale у галлов называется широкая чаша небольшой глубины, в которой обыкновенно подают богатым драгоценную свежесть их напитка, и зовут ее именем Graal… Я мог бы не найти эту историю, написанную на латыни; ведь у многих знатных людей есть только галльские рукописи; и все найти нелегко, говорят они. Я еще не смог ознакомиться с легендой, получив ее от кого-либо (лат.)].
Пробудившееся живое любопытство вскоре привело к мысли собрать воедино эти романы, ставшие развлечением при всех дворах знати[73]. Изучая их в наши дни, еще можно распознать в них руку собирателей. Вот например: автор Святого Грааля уверял, что книгу эту принес с небес Иисус Христос, тогда как собиратели выдают ее за сказание, сотканное из всех сказаний мира; мессир де Борон то сочинил его сам и по указанию короля Филиппа Французского, то с помощью г-на Вальтера Мапа[74] и по указанию короля Генриха Английского. Они убирают из книги о Мерлине последнюю главу, где было заявлено продолжение истории Алена Толстого, и подменяют обещанную ветвь ветвью об Артуре. В конце Мерлина еще можно было прочесть, что Артур после коронации «долго держал королевство в мире».
Эта линия развития была перечеркнута, поскольку сразу вслед за этим вставили книгу об Артуре, сочинение другого писателя, где вначале говорилось о долгих войнах Артура против Семи королей, против Риона Исландского, против Сенов, или саксонцев. Надо учитывать все эти поправки и вставки, если мы хотим разобраться в постепенном создании этих прославленных произведений.
Вот все, что я считал необходимым сказать здесь о собрании из пяти больших романов, которые, как справедливо полагают, явились вовсе не по воле случая, prolem sine matre creatam [ребенок без матери рожден» (лат.)], дабы изменить направление мыслей и характер литературных произведений. Как уже признали все критики, французский писатель, которому принадлежит честь напасть на след столь плодотворного источника, – это Робер де Борон. Однако Робер де Борон не является автором романа[75] о Святом Граале, как твердили нам собиратели; он создал лишь поэму об Иосифе Аримафейском.
Этот стихотворный роман основан на сказании, которое я бы, пожалуй, назвал Евангелием бретонцев, восходящем к третьему или четвертому веку нашей эры. Благочестивый декурион, который положил Христа в гробницу, волею сказителей стал апостолом острова Бретань. Он чудесным образом пересек море, основал на реке Северн в Сомерсетшире знаменитый монастырь Гластонбери, где и был похоронен. Таково было древнее бретонское поверье, и можно видеть, сколь дорого оно стало этому народу, по событиям конца шестого века. Тогда папа Св. Григорий по просьбе саксонского короля Этельберта послал римских священников для обращения недавних завоевателей. Старые бретонцы были возмущены этим вмешательством римского владыки, распахнувшего врата рая перед ненавистным племенем их притеснителей. И еще хуже вышло, когда Августин, глава миссии, вздумал порицать освященные временем формы их богослужения. «По какому праву, – говорили они, – папа явился тут осуждать наши церемонии и перечить нашим традициям? Мы ничем не обязаны римлянам; мы давным-давно были обращены в христианство первыми учениками Иисуса Христа, чудом прибывшими из Азии. Они наши первые епископы; они передали своим преемникам право посвящать и назначать других».
Историю этих больших и занимательных прений надо искать в прекрасной книге Монахи Востока. Резкость их дошла до такой степени, что бретонские клирики обвинили посланников Рима в подстрекательстве к разрушению и сожжению знаменитого Бангорского монастыря, центра сопротивления новому канону литургии. Было ли это обвинение обосновано или нет, были ли мотивы для раскола более или менее приемлемы, но все же надо признать, что для оправдания столь долгого упорства бретонское духовенство должно было иметь за собой древнюю традицию, несовместимую с традициями других церквей и решениями римской курии.
Г-н граф Монталамбер[76], признавая всю древность легенды об апостольской миссии Иосифа Аримафейского[77], все же отрицает, заодно с г-ном Пьером Вареном[78] что бретонская церковь когда-либо имела хоть малейшую тенденцию к расколу. По его мнению, бретонцы до пришествия англосаксов вполне верили, что первыми ростками веры обязаны Иосифу, «который вынес из Иудеи единственное сокровище – несколько капель крови Иисуса Христа; и оттого-то юг Франции возводил начало своего христианства к Марфе, к Лазарю, к Магдалине. Но, – добавляет уважаемый автор в другом месте[79], – бретонские обряды отличались от римских лишь в нескольких совсем незначительных деталях; это касалось формы монашеской тонзуры и церемонии крещения[80]». Если бы г-н Монталамбер и авторитеты, на которых он ссылается, смогли повернуться спиной к общественному мнению и уделить немного внимания чтению Святого Грааля, они бы, несомненно, изменили свои взгляды. Они признали бы, что правдивые или выдуманные легенды о прибытии в Испанию и Францию св. Иакова Младшего, Лазаря, Марфы и Магдалины были прекрасно совместимы с римской традицией. Но совсем иначе обстояло дело с легендой об Иосифе, которая, сделав его хранителем истинной крови Христовой, изобразила его первым епископом, получившим от Христа право передать таинство Служения первым бретонским священникам, от которых только и должна происходить вся духовная иерархия в этой старинной Церкви.
Хотя Беда Достопочтенный не уточнил, каковы были эти пристрастия, «несовместимые с единством церкви, – обычаи, которые Бретонцы и Скотты ставили превыше тех, что приняты всеми Церквями мира», – возможно, из боязни подлить еще масла в огонь сопротивления, – но нетрудно усмотреть даже в его собственной книге своего рода указатель пунктов, на которые приходились разногласия. В книге V, в главе XXI, посвященной пересказу жития святого Вилфрида, выходца из Шотландии и реформатора многих монастырей[81], мы видим, как святой еще накануне принятия тонзуры изучает псалтирь и некоторые другие книги[82]. Затем, вступив в монастырь Линдисфарна[83], Вилфрид после нескольких лет пребывания в нем приходит к мысли, что путь спасения в том виде, в каком ему следуют соплеменники-скотты, далек от совершенства[84]. Тогда он решает отправиться в Рим, чтобы увидеть, каковы церковные и монашеские обычаи, соблюдаемые там. Прибыв в этот город, он благодаря Бонифацию, ученому архидиакону и советнику Его Святейшества, получает возможность изучить в его ордене Четвероевангелие, правильное исчисление Пасхи «и множество иных вещей, которые не смог изучить в своей отчизне[85]». Остановимся на этом. Не странно ли видеть, что Вилфрид вынужден был поехать в Рим, чтобы там изучить четырех евангелистов? И не позволительно ли будет отсюда заключить, что скотты, а еще с большим основанием валлийцы ставили нечто превыше этих четырех священных книг? Во всяком случае, известно, что они отказывались признавать за папами право, на которое те притязали, вы двигать или назначать им епископов. Они полагали, что это право архиепископа Йоркского, которому надлежало единолично выстраивать всю иерархию бретонской Церкви. Чем они могли бы обосновать это требование, если не верой в некое пятое Евангелие или хотя бы во вторые Деяния Апостолов? Гг. Варен и Монталамбер злорадствуют, ручаясь, что мы не найдем в бретонском богослужении никакого иного родства с греческой Церковью, кроме общего исчисления Пасхи. Но, во-первых, мы знаем далеко не все формы бретонского богослужения; а во-вторых, нетрудно понять, что предание об апостольской миссии Иосифа Аримафейского, порожденное, видимо, фактом обладания некой реликвией, связанной с этой фигурой и хранимой изначально в монастыре Гластонбери, – что это предание, говорим мы, не имеет ничего общего с обычаями и обрядами византийской Церкви. Бретонцы просто верили, что их обратили в христианство без помощи Рима, и старались всего лишь сохранить независимость от святейшего престола.
В этом-то и состояла главная причина сопротивления бретонского духовенства миссионерам папы Григория. Если в инакомыслии такого рода не состоит тенденция к расколу, то я уж не вижу, почему правомерно называть раскольниками армян, московитов и греков. Осмелюсь все же применить к г-ну Монталамберу слова, которые наш романист адресует поэту Васу. Он склонен думать, что если этот бретонский священник никогда не отвергал верховенство папской власти, то лишь потому, что не знал книги о Святом Граале, в которой он бы узрел первопричину и мотивы этого безусловного отторжения.
Считали ли бретонцы шестого века своими первыми апостолами учеников Спасителя или только декуриона Иосифа Аримафейского, в любом случае это предание легло в основу корпуса повествований, возникших в течение двенадцатого века. Перейдем от эпохи первого крещения англосаксов к концу седьмого века, когда антагонизм двух Церквей, подогретый истреблением монахов Бангора и победой саксонцев, ничуть не утратил своей силы. Два последних короля бретонской нации, Кадваллон и Кадвалладр, один за другим искали укрытия в Арморике: один при короле Соломоне[86], чьи корабли вскоре перевезут его обратно на остров; второй при короле Алене Высоком, или Толстом. Кадваллон, воцарившись на некоторое время, оставил в саксонских поселениях долгую и кровавую память о своем возвращении. После его смерти сын его Кадвалладр, жертва вновь вспыхнувшей войны, бежал и покинул Великую Бретань, обещав вернуться по примеру отца. Но вместо того, чтобы принять помощь, по всей видимости, предложенную Аленом, он отправился умирать в Рим, где Папа причислил его к лику святых и указал воздвигнуть ему гробницу, объект поклонения бретонских паломников. А они, вновь наводнив Уэльс, все так же ждали от своих вождей отмены иноземного владычества; ведь барды в один голос с церковниками давно возвещали, что Кадваллону, а позже Кадвалладру суждено возродить прекрасные времена Артура и что не напрасно Иосиф Аримафейский привез некогда на остров сосуд, хранящий истинную кровь Иисуса Христа.
Не знаю доподлинно; но все склоняет меня к мысли, что предание об этом чудесном сосуде созрело в гуще событий, о которых я упомянул. Имена Кадваллона и Алена, короля Малой Бретани, слишком напоминают имена Галахада[87] – рыцаря, которому предначертано найти сосуд, и Алена Толстого, хранителя этого сосуда, чтобы можно было считать случайным такое совпадение. Но после того как умерли короли Кадваллон, Кадвалладр и Ален Высокий, три столпа стольких надежд, а драгоценная кровь так и не нашлась, да и саксонцев не прогнали, то бардам и прорицателям наверняка уже не было той веры, когда они повторяли, что победа бретонцев не за горами, что час освобождения пробьет, когда тело святого Кадвалладра вернется в Бретань и когда найдется столь горячо оплакиваемая и столь давно искомая реликвия.
Гальфрид Монмутский явился выразителем этих бретонских надежд, хоть и избегал произносить имя Иосифа Аримафейского и его чаши.
«Кадвалладр, – говорит он, – заручился от короля Алена, своего родича, обещанием немалой помощи; флотилия, предназначенная для завоевания острова Британия, была уже готова, когда ангел повелел беглому правителю отступиться от своего замысла. Господь не хотел даровать Бретонцам независимость прежде срока, предсказанного Мерлином: Господь наказал Кадвалладру отправиться в Рим, исповедоваться у Папы и там смиренно окончить свои дни. После смерти его причислят к лику святых, а Бретонцы узрят конец саксонского владычества, когда его бренное тело будет переправлено в Британию и когда отыщутся некие святые останки[88], сокрытые, дабы спасти их от ярости язычников».
Лет через тридцать после смерти короля Кадвалладра, около 720 года, один клирик из Уэльса, священник или отшельник, вознамерился вставить в сборник богослужебных текстов или песнопений старинное предание о миссии Иосифа Аримафейского и о драгоценной чаше, вверенной ему на хранение[89]. Чтобы придать этому Graduel (по Дю Канжу, Gradale) неоспоримый авторитет, он заявил, что Иисус Христос сам написал подлинник, а ему приказал переписать его слово в слово, ничего не изменяя. Он повиновался, говорит он, и честно переписал историю об особой любви Сына Божьего к Иосифу, о долгом заточении этого последнего, о его чудесном освобождении благодаря сыну императора Веспасиана, излеченному от проказы при виде лика Спасителя, запечатленного на платке Вероники. Иосиф, первый епископ, рукоположенный Иисусом Христом, получил привилегию назначать других епископов и тем самым положить начало церковной иерархии. Он чудесным образом переплыл на остров Бретань, женил своих родичей на новообращенных дочерях местных королей и умер, передав хранение драгоценного сосуда Брону, своему зятю, который позднее доверит хранить его своему внуку, Королю-Рыболову. Gradale оканчивается генеалогией, или, как говорит Жоффруа Гаймар, превосхождением бретонских королей, которые все произошли от сподвижников Иосифа Аримафейского.
Эта книга хранилась в монастыре, где она, без сомнения, и была создана: либо в Солсбери, как утверждает скрывший свое имя автор Тристана, либо, скорее всего, в Гластонбери, основанном, говорят, самим Иосифом, где якобы есть его могила, а затем нашлась и могила Артура. Но влияние, которое эта дерзкая книга оказала впоследствии на литературный процесс, было не таким, какого ожидал ее автор. Бретонское духовенство сразу же почуяло опасность ее распространения и отступило перед последствиями раскола, который она бы неизбежно вызвала. Это на самом деле значило бы пойти на разрыв с римской Церковью и породить сомнения в словах Евангелия, которые называют краеугольным камнем новой веры святого Петра. Пребывая в тайне, бретонский Грааль был забыт на три века; лишь среди бардов Уэльса он возбуждал некое почтительное любопытство. Может быть, о нем бы даже никогда и не заговорили, если бы не борьба с папством при Генрихе II, который одно время хотел полностью порвать с римской Церковью.
Автор Liber Gradalis отнес свое видение к 717 году. Я, наверно, очень удивлю тех, кто до сих пор штудировал роман о Святом Граале, если признаюсь, что эта дата не кажется мне фантастической и я даже нахожу, что она неплохо согласуется с умонастроениями, которые могли и должны были царить среди бретонцев восьмого века. Они перестали видеть в обоих Кадвалладах и в Алене судьбоносных освободителей Британии; но, хотя религиозная обрядовость больше не была в их представлении связана с патриотическими чаяниями, легенда об Иосифе оставалась по-прежнему мила всем, кто еще был привержен национальному богослужению. Они, в общем-то, смирились с тем, чтобы терпеть англосаксов в качестве соседей, не желая лишь иметь их господами. Чтение Gradale уже не напоминало об этих старых врагах бретонского племени; оно уже не вызывало в памяти отзвук таинственных имен Галахада и Короля-Рыболова, последнее эхо патриотических надежд, долго возлагаемых на королей Кадваллона и Кадвалладра, на армориканского государя Алена Высокого. Обычаи, которые за полвека до того были связаны с политическими чаяниями, в этой книге оказались лишены внятности и смысла. Галахад уже не более чем удачливый искатель, Ален – назначенный свыше хранитель сосуда для причастия, и молчание автора позволяет думать, что Бретонцам больше нечего было ждать от этой реликвии, хотя благодаря ей они бы обрели все, что барды насочиняли об Артуре. Но, коль скоро этот автор настаивал, будто он принадлежит к роду древних бретонских королей, ему пришлось озаботиться сбором доказательств своего происхождения, начиная от Брона, зятя Иосифа, и до потомков Артура. Итак, повторяю, датировка его видения 717 годом совпадает со всем, что можно предположить о чувствах, обуревавших валлийцев и бретонцев той эпохи. Ничто этому не противоречит и никоим образом не намекает на тенденции и события двенадцатого века, эпохи, когда версии Gradale облеклись в форму романа. Похоже, что единственным намерением здесь было утвердить расхождение бретонской Церкви с римской, превознося знатных особ, которых автор объявил своими предками и от которых немалое число валлийских фамилий тоже пытались вести свою родословную.
Займемся теперь поэмой об Иосифе Аримафейском, первым французским отображением всех этих валлийско-бретонских сказаний.
Робер де Борон не имел перед глазами ни латинской книги, чтобы черпать оттуда материал для своего творения, ни романа в прозе, бывшего уже в процессе воплощения, как мы бы сказали. Он сам в этом признается:
Je n’ose parler ne retraire,
Ne je ne le porroie faire,
(Neis se je feire le voloie),
Se je le grant livre n’aveie
Où les estoires sont escrites,
Par les grans clercs feites et dites.
Là sont li grant secré escrit
Qu’on nomme le Graal…
То есть: «Я не смею говорить о тайнах, открытых Иосифу, да и пожелай я их открыть, я бы не смог, не имея перед глазами великой книги, в которой их поведали великие мужи Церкви и которая называется Грааль…».
Впрочем, будучи рыцарем, он не обязан был понимать латинский текст, что он и доказал, перенеся имя литургической книги на чашу Иосифа; но я не сомневаюсь, что Gradale была известна Гальфриду Монмутскому, хотя в своей фантастической истории бретонцев он ухитрился не сказать ни слова об Иосифе Аримафейском. Положение Гальфрида, естественно, не позволяло взяться за подобный сюжет. Он был монахом-бенедиктинцем; он питал надежды на церковный чин, до которого вскоре дослужился; так что ему следовало быть весьма осмотрительным в отношении книги, столь несогласной с католической традицией.
Что же касается Робера де Борона, он не хотел выступать ни за, ни против валлийских или римских претензий. Ему рассказали красивую историю об Иосифе Аримафейском и Веронике, заключенную в «книге, которая называется Грааль», и о столе, устроенном в подражание тому, за которым Иисус проводил Тайную Вечерю; он не увидел во всем этом ничего неправедного и ни на миг не заподозрил, что любовь Иисуса Христа к Иосифу может нанести хоть малейший ущерб авторитету святого Петра и его последователей. Короче, он не усмотрел во всех этих историях злого умысла и изложил их по-французски лишь потому, что счел их созданными для удовольствия и наставления. Совсем по-другому, как мы увидим, будет обстоять дело с автором романа Святой Грааль, более или менее точным переводчиком, который не побоится противопоставить папской верховной власти мифологические традиции бретонской Церкви.
Соглашусь, сейчас может показаться удивительным, что первым открыл континенту существование валлийско-бретонской легенды француз из графства Монбельяр[90]. Но откуда нам знать, не бывал ли Робер де Борон в Англии; или во времена, когда города и замки были местом встречи жонглеров всех стран, не поведал ли ему сюжет этой богословской легенды кто-нибудь из бродячих искусников веселой науки? В любом случае мы не можем пренебречь его собственным свидетельством: Робер назвал себя, назвал и рыцаря, которому он преподнес свой труд. Закончив рассказ о том, как Иосиф передал в руки Брону сосуд, названный им Граалем, и как Ален и Петр отправились на Восток, он добавляет: «Мне надлежало бы последовать за Аленом и Петром в те страны, где они поселились, и дополнить их историю историей Моисея, низвергнутого в бездну; но
Je bien croi
Que nus hons nes puet rassembler,
S’il n’a avant oï conter
Dou Graal la plus grant estoire,
Sans doute qui est toute voire.
A ce tens que je la retreis,
O mon seigneur Gautier en peis,
Qui de Montbelial esteit,
Unques retreite esté n’aveit
La grant estoire dou Graal,
Par nul home qui fust mortal.
Mais je fais bien à tous savoir
Qui cest livre vourront avoir,
Que se Diex me donne santé
Et vie, bien ai volenté
De ces parties assembler,
Se en livre les puis trouver.
Ausi, come d’une partie
Lesse que je ne retrai mie,
Ausi convenra-il conter
La quinte et les quatre oblier.
То есть: «Но, когда я создал под призрением мессира Готье де Монбельяра роман, вами прочитанный, я не мог сверяться с великой историей Грааля, которую не воспроизвел еще никто из смертных. Теперь, когда она вышла в свет, я извещаю тех, кто благоволит продолжению моих повествований, что я намерен объединить все их части, если только смогу обращаться к книгам, в коих они содержатся»[91].
Не думаю, что это важное высказывание можно понять и изложить иначе, и из него я делаю вывод, что если Робер де Борон написал поэму об Иосифе до выхода Святого Грааля, то лишь в поздней редакции, единственной дошедшей до нас, он заявил о своей заслуге первопроходца, чтобы оправдаться то ли в том, что не проследил и не продолжил легенду, то ли в том, что без всякого перехода взялся за историю Мерлина, пока ожидал продолжения сюжетов, начатых в Иосифе Аримафейском. Хватило ли ему времени или желания исполнить это обещание? Не знаю, и меня это не слишком заботит, поскольку у нас есть романы, которые ему тогда осталось бы только переложить в стихи.
Я уже сказал, что он был родом из земель графа Монбельяра. В самом деле, в четырех лье от города с этим названием можно найти деревню Борон, и одновременно эта деревня позволяет нам распознать одного из баронов Монбельяров в той личности, при которой Робер сочинял свою книгу.
O mon seigneur Gautier en peis,
Qui de Montbelial esteit
[Монсеньору Готье на покое,
Что был из Монбельяра (ст. – фр.)]
Изменив кое-что в тексте, прочтя Espec вместо en peis, и не принимая во внимание второй стих, я задался вопросом, не позволено ли будет усмотреть в покровителе Робера де Борона Готье или Вальтера Эспека, этого влиятельного йоркширского барона, неизменно преданного фортуне графа Роберта Глочестерского, покровителя Гальфрида Монмутского и Вильяма Мальмсберийского[92]. Но, в сущности, у нас не было права даже в пользу самой очаровательной гипотезы учинять насилие над текстом, чтобы подарить Англии французский опус французского же автора. Вальтер Эспек на самом деле не имеет ничего общего с городом Монбельяром, расположенным на краю старинного графства Бургундия; а имя Готье, принадлежавшее тогда самому известному из братьев графа Монбельяра, позволяет безошибочно признать в писателе, который извлек его имя из окрестностей города Монбельяра, француза, состоявшего на службе у Готье. Эта столь вероятная догадка подтверждается в другом месте текстом из прозаической версии, созданной вскоре после оригинала. Вот как переданы там при веденные выше стихи: «И в то время, когда мессир Робер де Борон ее рассказал монсеньору Готье, сиятельному графу Монбельярскому, она еще никогда и никем не была написана». И немного раньше: «И мессир Робер де Борон, записавший эту повесть, с позволения святой Церкви и по просьбе сиятельного графа Монбельяра, у которого он служил…» Как мог бы автор прозаического текста во времена, столь близкие ко времени сочинения поэмы, ошибочно приписать рыцарю Готье Монбельяра творение рыцаря из свиты английского барона Вальтера Эспека?
Остается последняя неясность по поводу смысла, который следует придать этим словам: en peis.
En ce tens que je la retreis,
O mon seigneur Gautier en peis,
Qui de Montbelial esteit,
[В то время, когда я рассказывал ее
Монсеньору Готье на покое,
Что был из Монбельяра (ст. – фр.)]
Заметим для начала, что несовершенная форма esteit [был] применяется, вполне естественно, к человеку умершему: откуда следует, что к моменту, о котором Борон так говорит, Готье де Монбельяра уже не было в живых. Тогда не узнается ли в en peis [на покое] синоним латинского in pace [с миром], находимого в стольких старинных погребальных надписях[93]? Тогда я перевел бы так: «В то время, когда я трудился над этой книгой с покойным монсеньором Готье из дома Монбельяров».
Теперь несколько слов об этом последнем персонаже, который не фигурирует в наших якобы всеобъемлющих биографиях.
Это был младший брат графа Ришара де Монбельяра; он примкнул к Крестовому походу на знаменитом турнире в Экри[94], в 1199 году. Но вместо того, чтобы последовать за крестоносцами на Зару и Константинополь[95], он их обогнал и поехал вместе со своим родственником Готье де Бриенном[96] в Сицилию. Жоффруа де Виллардуэн, великий летописец Четвертого крестового похода, вернувшись из Венеции во Францию, чтобы там отчитаться о соглашении, заключенном с венецианцами, встретил графа Готье де Бриенна, когда проезжал гору Сенис, а тот «ехал в Апулию, чтобы отвоевать землю своей супруги, на которой он женился после того, как стал крестоносцем, и которая была дочерью короля Танкреда. С ним поехали Готье де Монбельяр, Робер де Жуанвиль и немалое число добрых людей из Шампани. И когда Жоффруа поведал им, как он преуспел, они весьма этому обрадовались и сказали: Вы найдете нас поблизости, когда вернетесь. Но случилось так, как угодно было Господу Богу; ибо они никогда уже не смогли собраться в своем войске, что было весьма прискорбно, ибо они неизменно были людьми великой чести и отваги[97]».
Из Апулии Готье де Монбельяр переехал на остров Кипр, где вскоре обзавелся большими владениями, женившись на Бургони де Лузиньян, сестре короля Амори[98]. После смерти этого государя в 1201 году он получил Кипр внаем или в управление до совершеннолетия его племянника, юного короля Гугона; наконец, он сам умер примерно в 1212 году, заслужив репутацию правителя щедрого, искусного и храброго. Но он так и не увидел опять Францию, которую покинул четырнадцатью годами ранее.
Получается, что Робер де Борон сочинил поэму Иосиф Аримафейский до того отъезда, до 1199 года, а после 1212 подверг ее некоторой переделке. Однако прозаические романы Святой Грааль и Ланселот предшествуют поэмам Рыцарь со львом, Рыцарь Телеги и Персеваль, вдохновленным ими, а Кретьен де Труа, автор этих поэм, умер около 1190 года. Значит, романы в прозе были созданы раньше этого 1190-го[99] и наверняка появились сразу после Иосифа Аримафейского. Таким образом, мы приходим к приблизительным датам от 1160 до 1170 г. для Иосифа и для прозаических романов Святой Грааль и Мерлин; до 1185 г. для Рыцаря со львом и Рыцаря Телеги; наконец, до 1214 или 1215 г. для нашего переложения Иосифа Аримафейского.
Я не отрицаю, что эти хронологические выкладки страдают неопределенностью; но, прежде чем отказаться от них, я в любом случае подожду, пока будут найдены более приемлемые. И напоследок повторю, что если бы Робер де Борон написал стихотворного Иосифа после прозаического Святого Грааля, ему не пришло бы в голову сказать, что раньше него никто не донес еще до слуха мирян эту легенду о Святом Граале.
Когда еще не подозревали, что существует поэма Иосиф Аримафейский, литературоведы были вправе считать творением Робера де Борона роман Святой Грааль, который собиратели в XIII веке часто ему приписывали. Эта ошибка стала непозволительной с тех пор, как г-н Франсис Мишель опубликовал Иосифа[100]. Этот ученый-филолог напечатал его в 1841 году (Бордо, in-12) со скрупулезностью, которой от него и следовало ожидать. К сожалению, изданный им уникальный текст был подпорчен. Одного листа в нем не хватало, другой, видимо, попал по ошибке и относился к некоей хвале Деве Марии. Но прозаический вариант позволяет восполнить эти пробелы и восстановить смысл пятнадцати стихов, бывших на утраченном листе.
Я уже мельком упоминал об этом прозаическом варианте, который, скорее всего, появился очень скоро вслед за стихотворным оригиналом: видимо, в этой форме повествование ценили больше. По крайней мере, до нас дошло довольно много его экземпляров[101], тогда как о существовании поэмы мы до сих пор знаем по единственной рукописи.
Здесь можно бы задаться вопросом: что заставляет нас думать, будто поэма была образцом для того, кто изложил нам весь этот сюжет в прозе. Вот эти причины: несмотря на то, что прозаик намеревался шаг за шагом воссоздать поэму, он частенько плохо передавал ее истинный смысл, а иногда делал неуместные добавления. Приведем несколько примеров, которые я легко мог бы приумножить.
В стихе 165 поэт повествует, как Иисус Христос дал наставление святому Петру прощать грешников и как святой Петр передал свою власть пасторам Церкви:



