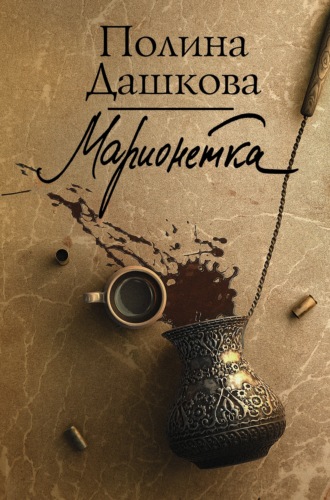
Полина Дашкова
Марионетка
Глава вторая
Несмотря на духоту, он разжег камин, уселся в кресло и уставился на огонь, морщась от сухого жара, изредка лениво поправляя кочергой поленья. Мягко, сосредоточенно скользили змейки пламени, перешептывались и приплясывали быстрые яркие язычки. В доме было темно и тихо. В последние несколько месяцев он не включал телевизор. Редкими свободными и одинокими вечерами сидел у камина, смотрел на огонь и думал. Он не включал телевизор потому, что на экране то и дело мелькали кадры чеченской хроники – растерзанные трупы детей и женщин, замученные, жесткие лица русских мальчиков в военной форме, новобранцев, обреченных стать пушечным мясом. Он считал себя если не виноватым, то причастным к этому бесконечному кошмару и уже не пытался оправдаться перед самим собой.
Полтора года назад Вадима Николаевича Ревенко, лучшего хирурга областной больницы, подняли ночью с постели и под дулом автомата повезли через границу в горное селение. Он должен был прооперировать трех раненых. Он мгновенно понял, кто они, эти раненые. Но они умирали, и он стал спасать их. Себя, конечно, тоже.
Он не отходил от операционного стола сутками. В фельдшерском пункте горного села устроили нечто вроде полевого госпиталя. В распоряжении Вадима Николаевича был только местный фельдшер-абхазец.
Для своих раненых бандиты не жалели ничего, доставали дорогие лекарства, американские шовные и перевязочные материалы, немецкие хирургические инструменты и щедро оплачивали услуги лучшего хирурга Вадима Николаевича Ревенко.
Возвращаясь домой, он включал телевизор и видел фотографии тех, кого только что спас. Они были объявлены в розыск, за каждым тянулся кровавый след расстрелянных заложников, растерзанных пленных российских солдат, терактов.
Город, в котором он родился и вырос, был областным центром российского Причерноморья, знаменитым курортом. Благополучие и процветание края держалось на нескольких крупных мафиозных группировках, то враждующих, то мирящихся. Мафии разделялись по национальному признаку. В городе, кроме русских и украинцев, жило несколько кавказских народов, и доктор с детства знал два кавказских языка.
Он привык лечить всех, без разбора. Не имело значения, кто лег к нему на операционный стол – добропорядочный горожанин, секретарь райкома партии, рыночный торговец или крупный уголовный авторитет. Если в благодарность за удачную операцию ему дарили дорогие подарки или давали деньги в конверте, он не отказывался. Он знал, что его труд стоит очень дорого, а на больничную зарплату прожить невозможно. Тот, кто мог и считал нужным платить, – платил. А кто не мог, того Ревенко оперировал бесплатно, и качество операции от этого не менялось. Его руки были для всех одинаковы – и для «крестных отцов» местных мафий, и для полунищих старушек, и для глав городской и областной администрации.
Теперь он оперировал еще и чеченских бандитов, которые прятались здесь, в горах. Когда за ним приезжали во второй, в третий, в десятый раз, он уже без всякого насилия садился в машину и отправлялся спасать раненых. Эти истекающие кровью, полумертвые, гангренозные, завшивленные чеченцы стали для него просто больными, которых надо лечить. Каждый раз, борясь за жизнь очередного полевого командира или рядового боевика, он не мог потом пойти и донести на него, хотя понимал: как только этот больной встанет на ноги, он опять начнет убивать, взрывать и брать заложников.
Да и куда он мог сунуться со своей информацией? Он знал: местная милиция куплена с потрохами, в местном ФСБ каждый второй получает чеченские деньги. Наверняка в Москве их получает каждый пятый. Где гарантия, что со своей информацией он не попадет именно к этому – пятому?
Через три месяца он все-таки попытался улететь в Москву, сославшись на Международную конференцию по экстренной хирургии, на которую получил официальное приглашение. В местном аэропорту к нему подошли двое, спереди и сзади, вплотную. Стоявший сзади держал под курткой пистолет, дуло уперлось Вадиму Николаевичу в спину. Тот, что оказался спереди, глядел ему в глаза и дышал в лицо запахом табака и шашлыка.
– Не надо тебе лететь в Москву, доктор. Ты здесь очень нужен, – произнес он тихо и ласково по-абхазски.
В тот момент в душе его щелкнул и бешено застучал часовой механизм взрывного устройства. Он понял, что рано или поздно это устройство сработает. Остановить, отключить его уже невозможно.
Чеченцы контролировали каждый шаг. А вскоре он почувствовал смутный интерес к своей скромной персоне со стороны российских спецслужб – то ли ФСБ, то ли ГРУ.
Время шло. Как член Международной ассоциации экстренной хирургии Вадим Николаевич имел право на безвизовый проезд в любые районы военных действий и лагерей беженцев. Он продолжал ездить через границу, расположенную вдоль реки Чандры, то на своей «Тойоте», то на военном «газике», который вместе с шофером-абхазцем был всегда к его услугам.
Месяц назад в село привезли очередного полевого командира с множественными осколочными ранениями брюшной полости. Человека этого знала вся Россия как одного из самых кровавых лидеров террористов. Он находился в розыске, в «Новостях» сообщали, будто он пропал без вести, а он между тем лежал на операционном столе в маленьком горном селении, и доктор Ревенко больше суток боролся за его жизнь.
Бандит быстро шел на поправку. Но чем лучше чувствовал себя пациент, тем мрачней и тревожней становился доктор. Он отдавал себе отчет в том, что, спасая жизнь Ахмеджанову, заранее обрекает на смерть множество ни в чем не повинных людей.
Вадим Николаевич не сомневался: сейчас в городе работает несколько серьезных агентов российских спецслужб. Они должны заниматься предстоящими губернаторскими выборами и связями кандидатов с чеченцами, засевшими в горах. Но как выйти на реального, а не опереточного агента? И до какой степени можно ему доверять? Ведь не случайно до сих пор не пойман и не посажен на скамью подсудимых ни один из серьезных чеченских лидеров.
Даже если представить, что ему повезет, удастся каким-то образом прорваться сквозь чеченскую слежку, выйти на нужного человека, дать ему полную информацию о крупной чеченской базе в горах и об Аслане Ахмеджанове, он все равно рискует головой. Такую информацию наверняка захотят проверить. Ведь послать в горы, на территорию дружественного государства, отряд спецназа, вести там настоящие боевые действия – это не шутки. Те, кто заинтересован в аресте Ахмеджанова, обязаны действовать наверняка.
Какие он может представить доказательства? Клок волос из бороды бандита? Или любительскую фотографию на фоне гор? «Давай, Аслан, я тебя сфотографирую на память?»
Как бы мало времени ни ушло на проверку, его в любом случае хватит, чтобы Ахмеджанов исчез, а доктора пристрелили. О том, как поставлена служба информации в городе и в горах, доктор знал очень хорошо.
Оставить все как есть, дать Ахмеджанову окрепнуть, встать на ноги Вадим Николаевич не мог. Прикончить бандита по-тихому, каким-нибудь медицинским способом тоже не мог. Рука не поднималась. Слишком долго и трудно он спасал этого человека, да и вычислили бы тут же, без вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.
Иногда ему хотелось хоть с кем-нибудь поделиться всеми этими навалившимися вопросами. Но рядом не было ни души.
Жена ушла от Вадима Николаевича десять лет назад к заезжему москвичу-курортнику. Сыну тогда исполнилось пятнадцать. До окончания школы мальчик жил с отцом, к матери в Москву приезжал на каникулы, а после десятого класса переехал совсем – поступил на биофак Московского университета, на втором курсе женился на канадке украинского происхождения, теперь жил в Квебеке. Письма от него Вадим получал все реже.
Появлялись женщины, но надолго не задерживались. Он искренне верил, что виноват его дурной замкнутый характер, но на самом деле еще не было ни одной, которую хотелось бы удержать.
В гостиной над камином висела большая репродукция известной картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Он любил смотреть на хрупкую удлиненную фигурку, балансирующую на большом цирковом шаре на фоне накачанного тяжеловеса. Постепенно нарисованная девочка стала полноправной обитательницей его дома, он беседовал с ней, не только мысленно, но и вслух, забывая, что ее не существует. Она просто нарисована великим художником.
Как высококлассный хирург он был нужен многим. Для множества женщин мог бы составить завидную партию как очень состоятельный сорокапятилетний холостяк. Но ни благодарные больные, ни жаждущие выгодного брака дамы и девицы не могли скрасить его одиночества. Нашлось, правда, одно существо, к которому Вадим успел привязаться в последнее время. Это был живой человек, не нарисованный, но немой и слабоумный.
Полы в горном госпитале мыл странный больной старик по имени Иван. Сначала Вадим Николаевич обратил внимание на русское имя. Потом заметил, что Иван выглядит значительно старше своих лет, и понял: слабоумие и немота – не врожденные. Под прозрачным седым пухом на голове виднелись страшные, глубокие шрамы, зажившие без всякой медицинской помощи. Слабоумие было следствием тяжелой черепно-мозговой травмы.
Иван не говорил, только мычал. Но доктору показалось, что он все слышит и понимает. Вадим Николаевич примерно представлял себе, каким образом мог попасть этот молодой старик в горное село. У чеченцев и абхазцев еще лет пятнадцать назад появилась своеобразная мода на русских рабов.
На вокзалах, в курортных городах высматривали и вычисляли «живой товар». Как правило, попадались демобилизованные солдаты, молодые беспечные одинокие провинциалы, ищущие заработка, чтобы красиво пожить на курорте. Их ловко подманивали, поили до бесчувствия, добавляя в водку сильное снотворное или наркотики, потом переправляли в горы. Там эти люди выполняли самую черную работу, их использовали в производстве опиума, они ходили за скотиной и сами постепенно превращались в покорных животных. Какое-то время их держали на одуряющих, разрушающих мозг наркотиках, а потом они уже сами не хотели никуда бежать.
Только встретив Ивана, доктор понял, что и прежде ему приходилось видеть в абхазских горных селениях русских рабов. Но раньше он принимал их за местных слабоумных. В русских и украинских селах тоже встречаются такие вот юродивые, с врожденным идиотизмом разной степени тяжести.
Доктор понимал, что ничем помочь Ивану не сумеет. Возможно, в хороших условиях можно бы добиться некоторого улучшения. Но для этого требовался профессиональный психиатр, стационарное лечение. Надежда на то, что Иван вспомнит, откуда он, произнесет или напишет свою фамилию, была практически равна нулю.
Вадим Николаевич возил ему еду, разговаривал с ним. Постепенно он стал замечать в блеклых, бессмысленных глазах Ивана тень мучительной мысли, что-то мелькало иногда осмысленное, живое, но тут же гасло. Как врач он видел, что жить Ивану осталось совсем немного – организм его истощен побоями, непосильной работой, вероятно, влито в него огромное количество наркотиков, и эти черепные травмы… Невозможно помочь физически, только вкусно накормить и сказать ласковое слово.
Пожалуй, в последнее время состояние доктора Ревенко походило на тихое помешательство: два близких существа – нарисованная девочка и слабоумный, немой, безнадежно больной человек. Однако сегодня, всего несколько часов назад, он вдруг увидел живую «Девочку на шаре» и даже узнал, что ее зовут Маша, что она из Москвы.
Сначала, проезжая мимо, он заметил, как два подвыпивших «качка»-амбала тащат под локотки тоненькую, беспомощную фигурку в длинной юбке. Он знал местные нравы. Молодые мафиозные «шестерки» любили так шутить спьяну. Но и «шестерки» знали, кто такой доктор Ревенко. Ему ничего не стоило вмешаться.
Въезжая перед ними на тротуар и останавливая машину, он даже не разглядел ее толком. Но уже через мгновение сердце у него остановилось. Девочка была удивительно похожа на пикассовскую танцовщицу, будто француз писал свою циркачку именно с нее.
Вместо облегающего циркового трико на ней была длинная юбка, длинный широкий свитер, но сквозь одежду легко угадывалась каждая линия ее тела. Тонкие руки были приподняты, пальцы маленьких невесомых ножек в мягких китайских тапочках едва касались земли. И два «качка»-амбала по бокам…
Пикассовская танцовщица была острижена коротко, под мальчика, а у этой, живой, девочки темно-каштановые волосы доходили до острых ключиц.
Вадим Николаевич честно признался себе, что теперь вместо нарисованной танцовщицы всегда будет видеть живую девочку. Она не выходила из головы, мешала думать, искать выход из тупика. «Хоть снимай любимую картину и прячь в шкаф», – усмехнулся он про себя.
Глава третья
Этот запах въелся в кожу. Сам Иван его не чувствовал, но хозяин, если подходил близко, всякий раз морщился и говорил:
– Ну и воняешь ты, Иван! Все вы, русские скоты, воняете.
В ответ Иван только тихо мычал беззубым ртом и делал выразительные знаки руками, мол, прости, хозяин, не понимаю.
На самом деле Иван понимал, хотя хозяин говорил на своем гортанном языке. Чужой язык выучился сам собой, слова намертво вбились в память, как тонкие гвозди в твердую доску. Он все понимал, но никогда вслух не произнес ни одного чужого слова. Еще в первые годы он повторял про себя родные русские слова, думал по-русски. Пока оставалась надежда убежать, он разрешал себе думать.
После третьего неудачного побега, когда его, связанного, с кляпом во рту, волокли через горное село на веревке, он нарочно старался шарахнуться головой о какой-нибудь камень, чтобы все забыть и ни о чем не думать. Камней попадалось много. Голова была вся в крови.
Работая на маковом поле, ухаживая за хозяйской скотиной, моя, чистя, перетаскивая ведра воды, копая землю, он пытался представить себе, что его память – чистый белый лист или легкое облако. Он учился не помнить. Даже всплыло откуда-то из глубины подсознания странное красивое слово: амнезия. Слово было научное, значило оно потерю памяти. По науке выходило, человек может память потерять.
Он действительно забыл, сколько лет живет в этих горах. Годы слились в один бесконечный день, и день этот был полон грязной отупляющей работой, побоями, боль от которых стала совсем привычной. Он не замечал ее и удивлялся, если тело не болело.
За эти годы били его и кнутом, и плетью, и самодельной резиновой дубиной, и прикладом автомата, но чаще – просто ногами. Каждый раз, когда удары становились сильнее обычного, он надеялся, что убьют наконец совсем. Но не убивали. Он стоил денег.
Все его хозяева, а их было не меньше пяти за эти годы, все эти Махмуды, Хасаны, Абдуллы слились для него в одно темное, расплывчатое пятно. Зато троих, с которых все началось, он помнил хорошо. Он и сейчас узнал бы их.
Веселый дембель Андрей Климушкин возвращался из Заполярья, где прослужил три года в Морфлоте на подводной лодке, домой, в колхоз «Путь Ильича» Псковской области Великолукского района.
В колхоз входило два села – Веретеново и Колядки. Андрей был веретеновский, а друг его, Вовка Лопатин, – колядкинский. Им повезло служить вместе, и домой они возвращались вдвоем. Каждого ждали дома родители, братишки-сестренки, бабушки-дедушки. Вовку ждала еще и невеста, у Андрея пока невесты не было, но хороших девчонок на два села хватало, он собирался приглядеть себе какую-нибудь, жениться, работать в колхозе трактористом.
Впереди виделась долгая, хорошая жизнь, семья, работа. И конечно, после трех лет в подводной лодке невозможно было просто транзитом проехать большой, красивый город Ленинград. Денег у них было мало, но загулять, хоть немного, хотелось. Все-таки дембель есть дембель.
В шумном ресторане Московского вокзала подсели к ним трое приветливых, хорошо одетых кавказцев. Разговор пошел душевный, слово за слово, на столе не убывало закусок и водочки. Поезд до Пскова уходил глубокой ночью, времени оставалось навалом.
Кавказцы чокались, произносили длинные умные тосты. Андрей с Вовкой разомлели и не заметили, что себе в рюмки кавказцы подливали из одной бутылки, а им – совсем из другой.
Первым вырубился Вовка. Голова его вдруг беспомощно повисла, подбородок упал на грудь, рот открылся. «Чего ж мы так надрались», – подумал Андрей, попытался встать и поднять осовевшего друга, но ноги стали какими-то чужими, ватными.
Очнулся он в поезде, под мерный стук колес, и сначала подумал, что едет в Псков, только удивился: у них с Вовкой был плацкарт, а здесь – купе. Вовки рядом не оказалось. Вместо него присел на нижнюю полку приветливый кавказец, ткнул в грудь дуло и ласково произнес:
– Нэ шевелыс, а то убью.
Андрей попытался рыпнуться – щелкнул предохранитель. Он понял – действительно убьет. Во рту сильно пересохло, он попросил:
– Попить дай хотя бы.
Ему подали стакан. Но вместо воды там оказалась водка, да еще с каким-то странным кисловатым привкусом. Он хотел выплюнуть. Его ловко скрутили, сжали пальцами щеки, стакан кисловатой жидкости влили в рот. Он опять куда-то провалился.
Потом был Грозный, какие-то горные села, маковые поля, землянки с мокрыми стенами. Он все думал о Вовке, но спросить было не у кого. Его куда-то перевозили, кто-то щупал мускулы, гнул шею, смотрел зубы. Он видел, как за него платят деньги.
Из трех своих побегов он уже не помнил ни одного. Осталось только слабое ощущение звона и тугого холода на лодыжках – когда его ловили, сковывали ноги длинной цепью. А после третьего, последнего, проволокли волоком через все село. И он пытался посильней стукнуться головой о камень. Как раз после того, последнего, побега он перестал говорить. С кем говорить? И зачем?
Теперь он уже знал, что не убежит. Не осталось сил. Он чувствовал себя глубоким дряхлым стариком. Зубы искрошились, на голове вместо густых темно-русых волос рос реденький белый пух. Он помнил, что когда-то его звали Андрюхой. Но сейчас тот давний веселый дембель стал для него чужим, далеким человеком. Иногда он мысленно спрашивал: «Что ж ты так лопухнулся, Андрюха?» И каждый раз чувствовал, что обращается к покойнику. Нет давно никакого Андрюхи. Есть немой русский Иван, который уже не помнит, сколько ему лет, откуда он родом, не знает, есть ли на свете село Веретеново, Великие Луки, Псков, Россия. Для него существуют только эти чужие равнодушные горы, камни под ногами, пустое ненужное небо над головой, ведра, которые надо таскать с колодца, тряпка, которой надо вымыть заплеванный пол.
Даже в госпитале, где лежали раненые, пол был заплеван. Недавно туда завезли какие-то сложные лампы, металлические блестящие конструкции, смутно напоминающие Ивану что-то связанное с медициной, с врачами.
Поставили койки с длинными тонкими шестами у изголовий. Потом он видел: к этим шестам привинчивали прозрачные банки с трубками.
Дом последнего хозяина находился неподалеку, и к домашней работе прибавилось еще мытье полов и стирка окровавленного белья. Он равнодушно подумал, что где-то идет война и сюда везут раненых.
А потом появился доктор. То, что он русский, Иван понял сразу, хотя говорил доктор на том же гортанном чужом языке.
Когда-то давно у первого хозяина работало, кроме Ивана, еще несколько русских, таких же, как он. Но первый хозяин его очень быстро продал второму. С тех пор Иван не видел ни одного русского. Он знал: где-то рядом, в соседних селах, есть такие же, как он, Иваны. Но ему казалось, все такие же немые, как он. Зачем говорить?
Когда появился доктор, что-то мучительно шевельнулось в душе Ивана. Он интуитивно старался держаться поближе к госпиталю, дольше, чем нужно, мыл полы. Ему вдруг захотелось услышать какие-нибудь русские слова – не те, что мелькали в потоках гортанной речи его хозяев, а настоящие.
Раненых становилось все больше. Иван не смотрел в их лица. Какое ему дело до их лиц? Но однажды он случайно скользнул глазами по выздоравливающему бритоголовому чеченцу. Чеченец этот был каким-то очень важным, самым главным. Иван узнал его сразу. Он поил кислой водкой на Московском вокзале двух дембелей. Узнал, но не понял – зачем? Чтобы понять, надо думать. Зачем думать, если он не хочет больше убегать? Он уже не помнил, куда надо бежать и зачем.
В горах он умрет с голоду. Голода он боится. Только голода и боится, больше ничего. А сейчас стали лучше кормить. Сейчас хорошо кормят. Еда может быть разной. Не только вода с крупой. Еда может быть вкусной. Русский доктор привозит вкусную еду специально для него.
Однажды доктор спросил фельдшера:
– Почему Иван? Он русский?
– Не знаю, – ответил фельдшер.
– Он здесь давно?
– Не знаю.
– Он всегда был глухонемым?
– Не знаю, зачем тебе?
Иван слышал весь разговор, понимал, что говорят о нем, и подумал только: «Нет, я не глухой. Я все слышу, но не говорю».
Доктор никогда не ел с ними, даже с фельдшером никогда не садился за один стол. Если он приезжал надолго, на целый день, то еду привозил с собой. Была маленькая комнатка, в которой он переодевался. Там стоял стол и два стула. Однажды Иван пришел мыть там пол. Он увидел у доктора на столе еду. Он только посмотрел, не попросил. А доктор протянул ему хлеба с колбасой, налил что-то темное и горячее в стакан и сказал по-русски, очень тихо:
– Сядь, Иван. Попей со мной чайку.
Иван не стал садиться, ел и пил стоя.
– Иван, ты русский? – спросил доктор еще тише.
Иван ел молча и сосредоточенно. Жевать хлеб и колбасу одними деснами было трудно. Он привык к крупе с водой.
– Ты ведь слышишь и понимаешь меня, – продолжал доктор, – ты ешь свинину, а мусульманин не стал бы.
Колбаса была очень вкусной. Наверное, и не колбаса вовсе, а что-то другое. Мусульмане такого не едят.
– Хочешь еще ветчины? – спросил доктор, когда Иван все съел.
Он вспомнил, как это вкусное называется: ветчина. Ее делают из свинины. А мусульмане не едят свинину. Доктор протянул ему еще.
– Только не спеши, Ваня. Я тебе отдам весь этот пакет, но ты не съедай все сразу. Ладно? Оставь себе на вечер.
Когда доктор приехал опять, он привез еду специально для Ивана и еще раз сказал:
– Только не спеши. Ты очень давно не ел нормальной пищи. Привыкать надо постепенно, а то заболит живот.
Иван делал, как велел доктор, – не спешил, хотя было очень вкусно. Доктор привозил ему не только ветчину с хлебом, но еще сыр, помидоры, яблоки, большие плитки шоколада. Он все аккуратно резал для Ивана, заворачивал в тонкие белые бумажки.
Иван узнал, что горячее коричневое в стакане называется «чай». Это слово его ошеломило. Оказалось, с ним связано столько всего странного, приятного, далекого. Чай сладкий, с ним легче жевать деснами, где-то когда-то Андрюха пил чай. Но Андрюха «умер».
Доктор поил Ивана горячим чаем и говорил с ним по-русски, очень тихо. Если кто-то из чужих оказывался рядом, доктор сразу замолкал. Иван почти не понимал, о чем говорит доктор. Только отдельные слова. Но они рассыпались у него в голове. Андрюха бы понял, но он «умер». Ивану просто нравилось слушать русские слова и пить горячий сладкий чай.
Красивые пакеты и бумажки от еды, которую привозил доктор, Иван аккуратно складывал и хранил в укромном месте, в хлеву, где спал, под соломой. Особенно нравились ему бумажки от шоколадок – сверху с цветными картинками, а внутри были еще блестящие. Иван разглаживал их ногтем и складывал отдельно.
* * *
Все! Сегодня наконец Саня приезжает. Но видеть его совершенно не хочется. Пусть остается, живет здесь сколько влезет, а ей, Маше, покупает билет прямо на завтра.
Утром на пляже опять подсел, вернее, подлег какой-то хлыщ и так сочувственно стал объяснять:
– То, что вас, девушка, до сих пор не изнасиловали и не убили, просто чудо. Предлагаю свою защиту, бесплатное проживание в хорошем пансионате, в отдельном номере со всеми удобствами.
– Главное из удобств – вы сами? – спросила Маша.
– Естественно! – кивнул он и этак нежно большим пальцем провел по ее ноге.
– Пожалуйста, если вам не сложно, оставьте меня в покое, – устало вздохнула Маша и неожиданно для себя добавила: – С чего вы взяли, будто я одна? Я приехала в гости к Вадиму Николаевичу. Просто он занят.
– Тогда другое дело. Извините. – Хлыщ исчез.
«Вот так! – усмехнулась про себя Маша. – Еще раз спасибо господину с черной «Тойотой». Возможно, этот хлыщ никакого Вадима Николаевича и не знает, но ведь сработало!»
Следя за поднимающейся в турке кофейной пеной, Маша думала о Вадиме Николаевиче, о первом встречном седом дяденьке, которому лет сорок пять, вспоминала его красноречивый взгляд и предложение переехать куда-нибудь. Надо было задержаться у машины, поговорить с ним еще немного, просто так, потому что с ним приятно и спокойно находиться рядом, и теперь вообще непонятно, кого больше ей хочется увидеть, седого, первого встречного дяденьку или драгоценного Санечку Шарко.
«Первый красавчик курса снизошел до золушки-заморыша. “Ты не Шерон Стоун!” А ты Кевин Костнер, можно подумать!» – зло усмехнулась про себя Маша.
На самом деле Саня действительно был чем-то похож на Кевина Костнера. Но мало ли кто на кого похож?
Кофе опять убежал.
– Та самая Маша Кузьмина, у которой всегда убегает кофе! – пробормотала она, хватаясь за тряпку.
Черная гуща на белоснежной плите не сулила ничего хорошего. Маша давно заметила, что если утром убегает кофе, днем непременно случается какая-нибудь пакость. После хозяйкиной тряпки руки воняли, пришлось тереть их щеткой с мылом.
– Вот тебе, детка, поздний завтрак или ранний обед, – сказала себе Маша, усаживаясь наконец за стол. – Между прочим, деньги кончились. Если Саня вдруг задержится, еду купить не на что. Чьи это мудрые слова: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда»?
– Сама с собой, что ли, разговариваешь? Роль репетируешь? – услышала Маша голос хозяйки и вздрогнула.
Хорошо, хоть сынок ее уехал. Но теперь ей скучно. А Маша имела глупость в первый же день сообщить, что учится в театральном училище. Сейчас впору нести турку и тарелку с бутербродом к себе в комнату!
Хозяйка с рассеянным видом присела на лавку у стола.
– Соломина Юрия видела? – небрежно спросила она.
Маша молча кивнула.
– Ну и как?
– Замечательно.
– А жена у него какая?
– Жену не видела.
– Любовница есть, не знаешь?
– Понятия не имею.
– А этого, как его? Ну, Штирлица видела?
– Не помню.
– Как – не помнишь?! – возмутилась хозяйка. – Как это можно не помнить?! Он старый уже стал, Штирлиц-то… А какой был мужчина! Слушай, а вот скажи, чтоб в фильме сняться, надо с режиссером переспать?
– Галина Ивановна, – терпеливо стала объяснять Маша, отставляя чашку и закуривая, – я закончила второй курс. Про фильмы пока ничего не знаю. Но думаю, спать с режиссером вовсе не обязательно.
– Ничего ты не знаешь, не помнишь, – разочарованно фыркнула хозяйка, – даже сериалы не смотришь. Вот там актеры, там игра! Ты «Просто Марию» смотрела? Нет. А я ни одной серии не пропустила. Вот объясни мне, почему наши так не могут? Попробовали снять эти, как их? «Петербургские тайны». Ох и скукота! Лучше бы не показывали, постыдились. Поучились бы у бразильцев!
– Кому что нравится… – пожала плечами Маша.
– Слушай, а у вас там, в театральном училище, все такие тощие, как ты?
– Нет, не все. Разные есть.
– Актриса должна быть в теле, – авторитетно заявила хозяйка. – Что это за женщина – ни спереди ничего, ни сзади, ни по бокам?
Маша встала и отправилась к раковине мыть чашку и турку.
– Ты гущу-то кофейную в раковину не лей, засор будет! – спохватилась хозяйка. – Вон в цветы выливай!
Терпеть осталось пять часов. Всего пять часов. Санин поезд прибывает в двадцать сорок, а сейчас три. «И что я на него злюсь? – подумала Маша. – Он не виноват. Разве он мог знать, как мне здесь будет плохо? Он ведь никогда не был одинокой девицей на черноморском курорте и не может представить, какая это гадость. И почему он должен ради меня отказываться от роли красавца вампира? Он ведь только уговаривал меня ехать в одиночестве и ждать здесь, а вовсе не заставлял. Он тоже ездил на юг в последний раз только в детстве, с родителями».
Запершись у себя в комнате, Маша решила скоротать время балетными упражнениями. Спинки кровати были металлические, никелированные. Она приспособилась одну из них использовать как балетный станок. Ничто так не успокаивало, как занятия у станка.
Взявшись за холодную перекладину, Маша стала командовать себе шепотом:
– Плие! Анкор плие! Гран батман!
Прозанимавшись больше часа, она улеглась на кровать с книгой воспоминаний Алисы Коонен.
Наконец стрелки наручных часиков показали половину восьмого. Маша умылась, причесалась и отправилась на вокзал. Поезд прибыл точно по расписанию, в двадцать сорок. Она стояла у девятого вагона. Начали выходить пассажиры. Прошло двадцать минут. Почти все вышли. Сани не было.
«Вот ты и накаркала беду! – зло усмехнулась Маша. – Вот тебе и убежавший кофе!»
Она подошла к проводнице:
– Скажите, пожалуйста, в вагоне кто-нибудь еще остался?
– У меня никого, – пожала плечами проводница.
«Может, я перепутала вагон? Или Саня что-нибудь перепутал?»
Она обошла платформу. «Если он ехал в другом вагоне, то стоит сейчас и ждет…» Но Сани нигде не было видно.
Маша посидела на лавочке, выкурила сигарету, убедила себя пока не волноваться и отправилась на переговорный пункт.
Опять проваливались жетоны и обрывалась связь. Но Маша решила не уходить, пока не дозвонится. Наконец послышались далекие дребезжащие гудки. Трубку взяла Санина мама.
– Машенька, здравствуй! Тебя очень плохо слышно. Саню позавчера забрали в больницу с острым аппендицитом. Он просил выслать тебе деньги телеграфом до востребования. Он очень волновался, что не сумеет приехать. Я тебе сегодня утром отправила четыреста тысяч на обратную дорогу.
– Спасибо, Нина Владимировна, – упавшим голосом произнесла Маша, – только родителям моим ничего не говорите. Передайте Сане, пусть не беспокоится, выздоравливает. Я приеду – деньги верну.
Связь оборвалась. Перезванивать Маша не стала.







