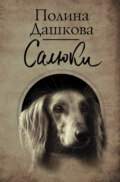Полина Дашкова
Эфирное время
– Вы побежали, а у меня одышка. Все пытаюсь бросить курить, – продолжал Красавченко, – я ведь давно хотел познакомиться с вами поближе. Но не было формального повода.
Фруктовый салат украшала затейливая розочка из взбитых сливок. Кофе был с легким привкусом ванили. Красавченко ковырнул ложкой свое пирожное, многослойную конструкцию из желе и суфле, но есть не стал, залпом выпил минералку и тут же закурил. Лиза подумала, что сладкого он тоже не любит, и с удовольствием принялась за свой салат.
Она ела не спеша, прихлебывала кофе, он смотрел на нее пристально, не моргая. Да, она уже заметила, что он хочет познакомиться поближе, только не могла понять зачем. Неприятно было то, что он разыгрывал перед ней спектакль. Изображал настойчивый мужской интерес. Все выглядело вполне натурально. Чересчур натурально. Ей было слишком много лет, чтобы обмануться в таких вещах. Она прекрасно знала, как смотрит мужчина, который в самом деле влюблен.
Господин Красавченко старательно пялился на нее. Раздевал взглядом, ощупывал и при этом многозначительно облизывал губы. Казалось, в его бледно-зеленых, чуть прищуренных глазах были дополнительные железы, которые активно вырабатывали сало. Наглый сальный взгляд. Пародия на влюбленность. Человек с пластмассовым лицом, очень похожий на дипломата, но не настоящего, а из мексиканской «мыльной оперы». И даже запах его хорошего одеколона отдавал дешевеньким мыльным душком.
– Находить формальные и неформальные поводы для более близкого знакомства – это азбука вашей профессии, – улыбнулась Лиза, покончив с салатом и закуривая, – на то вы и дипломат, чтобы легко общаться даже с теми, кто не хочет с вами общаться.
– И не скрывает этого, – добавил Красавченко, многозначительно улыбнувшись. Но тут же его лицо стало лирически-серьезным. Он перевел взгляд с ее губ на шею, и даже сглотнул при этом, и даже протянул руку, поправил выбившуюся прядь. – Вам очень идет такая прическа, Лиза, – он резко убрал руку и немного покраснел.
«Вот у кого надо учиться властвовать собой, – подумала Лиза, наблюдая мастерски выразительную мимику дипломата, – будь я лет на пятнадцать моложе, поверила бы. А сейчас – фигушки».
– Анатолий Григорьевич, у вас неудачное пирожное? Вы совсем не едите.
– Все на вас смотрю, Елизавета Павловна. Пытаюсь понять, в чем секрет. И кажется, почти понимаю. Не в том дело, что вы красивы, умны, успешны, хотя это тоже важно. Вы излучаете здоровую энергию. Свет и тепло. Знаете, одни поедают энергию собеседника, другие, наоборот, щедро заряжают всех страждущих. Вот вы заряжаете. Отдаете. Вам этого никто не говорил?
«Ну, ты, батенька, загнул, – весело подумала Лиза, – идешь напролом. Любопытно бы узнать, что тебе на самом деле от меня нужно?»
– Спасибо, Анатолий Григорьевич. Мне редко говорят комплименты.
– Это не комплимент. Скорее предостережение.
– Почему?
– Отдавая энергию, вы ее теряете. Вам надо как-то восстанавливаться, заряжаться. Есть много разных способов. Музыка, свежий воздух, спорт, секс. Впрочем, на все это у вас, вероятно, нет времени. Я знаю, как много вы работаете.
– Да, конечно, – рассеянно кивнула Лиза.
– И все-таки заряжаться надо.
– Я слушаю классическую музыку. Иногда катаюсь на горных лыжах.
– Этого мало, – он улыбнулся и откровенно облизнул губы.
«Дурак и пошляк», – устало прокомментировала Лиза.
– Кстати, насчет личной жизни, спорта, музыки и всяких увлечений, – продолжал Красавченко, – мой хороший знакомый, корреспондент голландского журнала «Фольксгарден», просил меня поговорить с вами о возможности интервью. Он пожилой человек, вполне интеллигентный. Его зовут Давид Барт. Он отнимет у вас не больше тридцати минут.
– Очень интересно, – Лиза натянуто улыбнулась, – он разве не может просто подойти ко мне в фойе, в перерыве? Я только и делаю, что даю интервью.
– Вы отвечаете на вопросы, касающиеся конференции, а он хочет поговорить с вами о другом. Его интересуете вы как личность, как женщина, если хотите…
– А если не хочу?
Лизу стал всерьез раздражать этот двусмысленный игривый тон.
– Ну, простите, возможно, я неудачно выразился. Хотя не вижу в этом ничего обидного. В общем, моему голландцу нужен неспешный, теплый, доверительный разговор. К тому же у него нет аккредитации. А вы сами знаете, как свирепствует сейчас охрана из-за сербов и арабов.
– Я не отвечаю на вопросы, касающиеся моей личной жизни, – быстро проговорила Лиза.
– Елизавета Павловна, но это невозможно. – Красавченко удивленно поднял брови. – Вы простите меня, но для человека вашего уровня это выглядит глупо, по-детски. Вы все равно никуда не денетесь от этих вопросов. По статусу вам положено участвовать хотя бы изредка в разных ток-шоу, давать интервью именно на эту тему. Вы ведь умная женщина, вы понимаете, что, если ваша личная жизнь станет тайной за семью печатями, начнут складываться мифы. О вас такое придумают, что мало не покажется.
– Анатолий Григорьевич, мне совершенно безразлично, что обо мне сочиняют. Но я вправе не принимать личного участия в мифотворчестве о своей скромной персоне.
– Ну вот, у вас стало совсем другое лицо, – Красавченко тяжело вздохнул, – только что от вас исходило тепло, свет, а сейчас – брр… так холодно, лед в глазах, лед в голосе. Кто-то из журналистской братии вас сильно обидел?
Несколько секунд она молчала и вдруг весело рассмеялась.
– Я похожа на самоубийцу?
– Нет… Что вы имеете в виду? – На ее смех он ответил вежливой, недоуменной улыбкой.
– Обижаться на средства массовой информации, воспринимать их выпады всерьез – это медленный, но верный суицид. Такие вещи кончаются инфарктами, инсультами.
– Ну, тогда я тем более не понимаю, почему вы не хотите дать интервью голландскому корреспонденту.
– Потому что именно из таких вот теплых доверительных разговоров и производятся мифы, дурно влияющие на общественное мнение. Особенно если интервью выйдет в свет на таком экзотическом языке, как голландский, в двойном переводе. Не исключено, что найдется какая-нибудь желтая газетенка, которая потом переврет мои слова как угодно. А если я вдруг не выдержу и подам в суд, то ответчик может сослаться на неточность перевода.
– Да, Елизавета Павловна, я слышал о вашей осторожности, но не предполагал ее масштабов, – Красавченко покачал головой. – Даже для меня, матерого дипломата, это слишком. Ну, хорошо, а если я дам вам гарантию, что ни одной опасной темы голландец не затронет?
– В таком случае он не профессиональный репортер.
– Как раз наоборот, он настоящий профессионал. То есть он может интересно подать любую информацию, не обязательно скандальную.
– Для того чтобы любая, самая безобидная информация заинтересовала публику, в ней должно содержаться нечто скандальное или хотя бы скабрезное. Это, к сожалению, закон жанра. Анатолий Григорьевич, вам это очень нужно? – Она улыбнулась мягко, доверительно. Именно это ей больше всего хотелось узнать: чего на самом деле хочет от нее дипломат с пластмассовым лицом? Она совершенно не опасалась давать интервью. Одним корреспондентом больше, одним меньше – неважно.
– Можно вашу сигарету? Пытаюсь бросить курить, мои кончились, и вот стреляю. – Он продолжал улыбаться, но глаза стали напряженными, колючими.
«Так-то, Анатолий Григорьевич, еще неизвестно, кто кого прощупывает в этом разговоре, – подумала Лиза, – теперь я дам вам шанс мягко уйти от неприятной темы. Поглядим, захотите ли вы к ней вернуться?»
– Пожалуйста, – она протянула ему пачку, – но так вам никогда не удастся бросить. Скоро вам станет неловко стрелять чужие сигареты, вы опять начнете покупать свои.
– Почему вы так думаете?
– Сама проходила. Бросить курить можно тогда, когда точно знаешь, что это лично для тебя более вредно, чем питаться жирным мясом, макаронами с кетчупом, гамбургерами, сосисками, запивая все это пивом или кока-колой и дыша выхлопными газами.
– А, я все понял. Вы потому так отлично выглядите, что не едите всего, что перечислили?
– Правильно, – кивнула Лиза, – но я курю и дышу выхлопными газами.
– Жалко, с нами нет сейчас Давида Барта с диктофоном. Он будет звонить мне завтра утром, а я так и не знаю, что же ответить.
– Вы не объяснили мне, зачем это лично вам нужно? – напомнила Лиза. – Почему вы так долго и серьезно уговариваете меня встретиться с этим голландцем? Он ваш близкий друг? Родственник? Он обещал вам какую-то ответную услугу?
– Да, о вашей жесткости я тоже наслышан, – пробормотал Красавченко. – Нет, Давид Барт мне не друг, не родственник, и никаких ответных услуг я от него не жду. Все проще. Все на уровне приятельского трепа. Я обещал уговорить вас. Люблю выполнять обещания. Даже те, которые даны на уровне трепа.
– Даже те, которые даны за другого человека?
– Ну ладно, я поступил опрометчиво. Не думал, что для вас это так серьезно.
– Да, для меня это серьезно. – Лиза встала. – Наверное, нам пора в гостиницу, Анатолий Григорьевич.
– Жаль. Очень жаль. Ну, на «нет» и суда нет. Отказаться от интервью – ваше право.
Помогая ей надеть пальто, он ненароком потерся щекой о ее волосы.
* * *
– Мне нужно сделать анализ крови! Меня чем-то накачали! Время идет, вещество может рассосаться! Не останется следов! Я не убивал, меня подставили! Я должен позвонить жене! – Пока его везли в милицейской машине, Саня упрямо, как сумасшедший на митинге, выкрикивал эти фразы, но не получал никакого ответа, кроме «Заткнись, не ори!».
Потом безнадежно, еле слышно нашептывал, как молитву, что по закону ему положен адвокат, что стрелять он не умеет, а даже если бы умел, то был без сознания, и вообще он понятия не имеет, как оказался в чужом подъезде. Он и адреса убитого точно не помнит, а записной книжки при нем не было, и вообще какого черта его понесло бы глубокой ночью куда-то, кроме собственного дома?
Самое скверное, что он действительно ничего не мог вспомнить. Весь прожитый день тонул в какой-то мучительной мути. Если утро еще кое-как высвечивалось, раскладывалось на детали, то вечер терялся вовсе. Он сумел вспомнить, что утром был у него телефонный разговор с Вовой Мухиным, причем разговор странный, неожиданный, важный, и вроде бы это имело отношение к вечеру, но о чем они говорили, Саня забыл напрочь, и с дальнейшими событиями телефонная беседа никак не сплеталась. Он старался проследить мысленно весь прожитый день, час за часом, и не мог. Это вызывало у него потную липкую панику. Оттого, что вспомнить было необходимо, события все стремительней путались в голове.
Такое однажды случалось. В институте на третьем курсе во время зимней сессии он умудрился получить «неуд» на экзамене по физике, хотя был готов и отлично знал ответы на оба вопроса в билете. Он легко и быстро набросал план, не дожидаясь вызова, отправился отвечать. Но стоило ему оказаться у стола экзаменатора, и что-то произошло. Он молчал как рыба. Он забыл все, вообще все. Мучительно пытался выдумать первую фразу или хотя бы слово, с которого можно начать, но не мог, как будто вообще разучился говорить по-русски.
Позже ему объяснили: такое бывает. Даже существует специальное понятие в психологии – экзаменационный ступор. У совершенно здорового человека от усталости и нервного перенапряжения что-то там срабатывает в мозгу или, наоборот, не срабатывает. В общем, гипофункция памяти связана с диффузной задержкой мысли. Это он сам прочитал в дореволюционном учебнике психиатрии, который валялся у бабушки в глубине книжного шкафа. Прочитал и успокоился, понял, что он пока еще не псих. Экзамен пересдал на «отлично».
Но сейчас не экзамен. Забывчивость чревата не лишением стипендии, а лишением свободы, что, собственно, уже и произошло. Дальше будет только хуже.
Сначала его привезли в районное отделение милиции. В «телевизоре», в прозрачном зарешеченном загончике для задержанных, соседями его оказались шальные, накачанные наркотиками подростки, парочка тихих бомжей и какой-то совсем бешеный пожилой мужик, взятый за изнасилование десятилетней девочки.
Саня забился в угол. Он видел, как шевелятся от вшей волосы у бомжей на головах, видел страшные мутные глаза мужика-насильника, слышал унылую матерщину подростков, и это мешало сосредоточиться, сообразить, что же произошло на самом деле. Он представлял, как мечется сейчас по квартире Наташа, и от этого больно сжималось сердце. Наверное, она обзванивает больницы. Ей диктуют все новые справочные номера, она не успевает записывать, руки у нее дрожат, в глазах горячо от слез. Хорошо, если Димыч спит.
Саня понимал, что надо спокойно и серьезно обдумать свое положение, но мысли его почему-то упрямо убегали прочь из загончика-«телевизора», из вони и ужаса, домой, к жене и сыну. Он так ясно видел, как открывает дверь своей квартиры, как ворчит Наталья, помогая ему снять грязную дубленку, как он залезает в горячую ванну с хвойной пеной, а потом, красный, распаренный, чистый, в теплом махровом халате, пьет крепкий чай на кухне и рассказывает Наталье дикую историю про труп в чужом подъезде.
Мужика-насильника вывели из «телевизора», он завизжал высоким, надрывным голосом, стал упираться ногами и руками, потом завыл, как пес. Вой этот мучительно долго стоял в ушах.
Время шло. На Саню никто не обращал внимания. Он понимал, что с каждой минутой тают его шансы выпутаться. В памяти у него был черный провал. Последнее, что осталось от начала сегодняшнего вечера, были долларовые купюры, рассыпанные по полу. Но где именно он видел это, кому принадлежали деньги, кто находился рядом, Саня вспомнить никак не мог.
В отделение ввалилась толпа дешевых проституток. Продрогшие, с расплывшейся косметикой на лицах, они громко ржали, заигрывали с милиционерами, вели себя так, словно отделение для них дом родной, а задержание – счастливая возможность погреться и отдохнуть.
– Что загрустил, красивый мой? – подмигнула Сане огненно-рыжая румяная толстуха в зеленых кожаных шортах и порванных черных колготках.
Он вдруг вспомнил, с какой брезгливой жалостью поглядывал на этих продрогших дешевых куколок из окна машины, проезжая поздними вечерами по Тверской или по Садовому кольцу, как снисходительно удивлялся их солдатской выдержке. Они ведь почти голышом выстраивались на холоде, под ветром, снегом, дождем, и было приятно на этом печальном фоне ощущать себя в теплой машине, чистеньким, независимым.
Однако сейчас несчастные, истеричные девки во сто крат счастливей его. Их отпустят, ну в крайнем случае, оштрафуют. Им не привыкать. А он застрял надолго и всерьез. Как говорил Артем Бутейко, влип по-черному. Впрочем, сам Артем «влип» еще черней. Он мертв.
Реальность наплывала на Саню вместе с хохотом проституток, нытьем наркоманов, у которых начиналась ломка, мерным храпом бомжей, помятыми лицами милиционеров, предутренней серой суетой районного отделения.
«Я не сумею выкрутиться, – с тоской думал Саня, – пистолет мой. На нем мои отпечатки. Я заснул на месте преступления рядом с трупом. Это называется бытовуха».
Глава 3
– Бытовуха, она, родимая, – со вздохом пробормотал старший следователь следственного отдела окружного УВД Илья Никитич Бородин, открывая папку со свежим уголовным делом.
То, что в деле нет никаких неясностей, огорчило и даже обидело Илью Никитича. В отличие от большинства своих коллег, он любил запутанные дела. Но если попадались иногда за долгие годы его работы преступления, которые не распутывались с двух-трех ходов, то всегда все упиралось в пошлые унылые мотивы. Деньги. Жилплощадь. Конкуренция в бизнесе.
Что касается преступлений громких, скандальных и до сих пор не раскрытых, то с ними Илье Никитичу работать не приходилось, впрочем, он знал, что и там нет ничего таинственного. Просто больше действующих лиц, больше нулей в денежных суммах, бизнес крупней, а по сути – та же тупая бесстрастная корысть, та же пошлость. Нераскрытыми эти преступления оставались не потому, что были тонко и хитро продуманы, мастерски выполнены, а потому, что их не хотели раскрывать – все по тем же пошлым прагматическим причинам, и это само по себе было преступлением, злодейством. Круг пошлости замыкался.
Ежедневная рутина, горы бумаг, нудные допросы – все это никак не вязалось с теми романтическими представлениями о профессии следователя, которые сложились в душе Бородина в юности. Он прекрасно понимал, что душа его продолжает кормиться глупыми полудетскими иллюзиями, но расставаться с ними не хотелось. Слишком грустно под старость окончательно убедиться, что человек человеку даже не волк (потому что волк – зверь умный и благородный). Человек человеку кирпич, который падает на голову просто так, без всяких мыслей и эмоций.
Когда он принял к производству дело об умышленном убийстве журналиста Артема Бутейко, сердце его возбужденно забилось. Тележурналист. Известная личность. Кого только этот Бутейко не поливал дерьмом.
Перед мысленным взором Ильи Никитича тут же замелькали кадры какой-то ночной программы, встала неприятная физиономия ведущего, который с нескрываемым удовольствием рассказывал о нежной дружбе известнейшего политика с молоденьким солистом рок-группы. А потом еще вспомнились обрывки ток-шоу, в котором этот Бутейко буквально насиловал двусмысленными хамскими вопросами популярного кинорежиссера.
В голове завертелись хитрые версии, одна остроумней другой. Возможно, Бутейко раскопал серьезный компромат или кого-то подставил своей неумеренной наглой болтовней. Или вдруг кто-то наконец оскорбился до глубины души теми гадостями, на которых Бутейко сделал карьеру, и решил отомстить, отстоять свою честь, пусть незаконно, но почти благородно. Возможно, убийство это сродни дуэли, как в старые добрые времена, когда оскорбление чести смывалось кровью.
Илья Никитич немного раскраснелся от возбуждения, вытер лоб клетчатым накрахмаленным платком. И тут же поймал насмешливый взгляд дежурного следователя, который передал ему дело к производству.
– Подозреваемый задержан на месте преступления, практически пойман с поличным. Убитый должен был своему приятелю три тысячи баксов, приятель – мелкий бизнесмен, после кризиса разорился, стал требовать у Бутейко вернуть долг, пару раз пригрозил, потом нажрался с горя, подстерег терпилу в подъезде и пальнул в голову в упор. Бытовуха.
Краска радости тут же отхлынула от круглых щек Ильи Никитича, лицо его вытянулось и погрустнело. Он постарался скрыть, как сильно расстроился.
Что делать? Злодейство уныло и дебильно. Вероятно, до пенсии ему так и не встретится достойный противник, преступник-интеллектуал, какой-нибудь современный Родион Раскольников.
Яркие и серьезные чувства – месть, зависть, ревность, любовь, тщеславие, идейная убежденность, либо не существуют вовсе, либо остались где-то в далеком прошлом. Над Бородиным постоянно посмеивались в управлении, называли Пинкертоном и Шерлоком Холмсом. Все знали, что Бородин любит выдумывать загадки там, где их нет.
– Тебе бы романы писать, – хмыкали коллеги, – накручиваешь, чего не бывает. На жизнь надо проще смотреть.
Но Бородину в его солидном возрасте, с его солидным профессиональным опытом, с его мягким пухлым брюшком, седенькими кудрявыми бачками вдоль круглых щек, с его пристрастием к сладкому дрожжевому тесту и фруктовому кефиру, все не хотелось воспринимать жизнь реально, правильно, без всяких романтических иллюзий.
Когда его называли Шерлоком Холмсом, он не возражал, а что касается Пинкертона, то тут Илья Никитич был непримирим. Он начинал подробно и нудно объяснять, что существовало два Пинкертона, оба были порядочными свиньями, и многие их путают.
Аллан Пинкертон, реальный исторический персонаж, родился в 1819 году в Глазго, в семье бедного шотландского полицейского. В юности эмигрировал в Северную Америку, перепробовал множество профессий и наконец в 1850-м открыл детективное агентство. Эмблемой агентства был глаз, девизом – «Мы никогда не спим». Дела сразу пошли вполне успешно.
Во время войны Севера с Югом бессонное агентство Пинкертона занималось за большие деньги разведывательной деятельностью в пользу федерального правительства. После войны, во время экономической депрессии 70-х, агентство обслуживало крупные угольные и железнодорожные компании. Легендированные пинкертоновцы внедрялись в шахтерские профсоюзы, провоцировали их лидеров на противоправные действия, а если не удавалось, действовали сами, совершали убийства и поджоги. Потом выступали в качестве свидетелей на судебных процессах, давали ложные показания, в результате десятки людей были приговорены к смертной казни через повешение.
Когда деятельность агентства получила огласку, количество клиентов сократилось. Мало кто хотел обращаться за помощью к убийцам и провокаторам. Чтобы восстановить доброе имя, Аллан Пинкертон организовал активную рекламно-литературную кампанию. Сначала стали выходить брошюрки с увлекательными и совершенно лживыми мемуарами сотрудников агентства, а позже появился легендарный Нат Пинкертон, герой коммерческого литературного сериала. Дешевенькие истории про суперсыщика поставляли на книжный рынок безымянные голодные студенты и репортеры. Для них это был дополнительный заработок, для бессонного агентства, которое продолжало свою сыскную деятельность после смерти основателя, отличная реклама.
Илья Никитич знал много интересного, любил углубляться в историю. Стоило произнести при нем какое-нибудь известное, обросшее мифами имя, и он тут же начинал соскребать наросты неправды, вываливал на собеседника целый ворох замысловатой информации. Но голос у него был таким тихим и монотонным, что слушателей находилось мало. Его упрямо продолжали дразнить «Пинкертоном». Он упрямо обижался и обстоятельно объяснял, кто такие эти два Пинкертона, реальный и вымышленный. Бородин не любил, когда правду подменяли мифом и верили в то, что противоречит фактам.
Сейчас, сидя над тоненьким неинтересным делом об убийстве тележурналиста, Илья Никитич думал о том, что слишком большое количество очевидных фактов иногда тоже может обернуться мифом.
Анисимов Александр Яковлевич, семидесятого года. Родился в Москве. Женат, имеет одного ребенка девяти месяцев. Занимается частным предпринимательством. Образование высшее. Ранее к ответственности не привлекался. Со слов матери убитого известно, что в июле этого года Анисимов дал в долг Бутейко три тысячи долларов. Никаких документов, никакой расписки нет. Сроки возврата не оговаривались. О процентах речи не шло. В протоколе зафиксировано, что на вопрос дежурного следователя о процентах Елена Петровна Бутейко ответила: «Нет, ну что вы? У моего сына ни с кем не было таких гадких отношений, он под проценты денег не брал!»
Стало быть, все по-приятельски, все на доверии. Однако, несмотря на теплые доверительные отношения, неделю назад Анисимов потребовал у Бутейко вернуть долг, причем в очень резкой форме, сначала по телефону. Что именно говорил Анисимов, никто не слышал. О том, что разговор был резким, свидетельствует мать убитого. От нее же известно, что двумя днями позже Анисимов побывал у них дома, опять настойчиво требовал вернуть долг, кричал и открыто угрожал Бутейко.
Кроме Елены Петровны, других свидетелей пока нет. Отец убитого в больнице, у него инфаркт. Допрашивать его врачи запрещают. А Елена Петровна не сомневается, что ее сына убил Анисимов. Правильно, сейчас никто в этом не сомневается. У Анисимова имеется пистолет «вальтер». Напился, пришел ночью в подъезд, застрелил в упор, в висок, и тут же уснул на месте преступления. Пистолет, из которого был произведен выстрел, валялся в нескольких метрах от спящего убийцы.
Орудие убийства, мотив, угрозы. Очень качественные доказательства, отборные, можно сказать.
– И все же, и все же… – пробурчал Илья Никитич себе под нос.
Почему никто не услышал выстрела? Ночь. Тишина. Жильцы первого этажа должны были как-то отреагировать на звук, даже если спали. Пистолет без глушителя, кафельные стены, акустика великолепная.
Труп обнаружила женщина, которая вышла с собакой. Она вызвала милицию. Жилец первого этажа выглянул на ее крик, а не на выстрел. И все это произошло через двадцать пять минут после убийства. А пьяный убийца спокойно спал, свернувшись калачиком, неподалеку от трупа. То есть, получается, он выстрелил в упор, в висок, когда Бутейко стоял у лифта. Потом побежал к двери. Ему надо было спуститься на три ступеньки вниз, но он не сумел преодолеть это препятствие, кубарем скатился с лестницы и потерял сознание. Однако никаких травм при первоначальном осмотре не обнаружено. Так, во всяком случае, записано в протоколе. Головой он не ударился, лежал себе целехонек, только вырвало его. Получается, он просто уснул? Ну что ж, такое тоже бывает. Вполне стандартная ситуация…
Илья Никитич прошелся по кабинету, продолжая бормотать себе под нос, включил электрический чайник, извлек из старенького портфеля пакет с мамиными пирожками. Два с капустой, два с яблоками. Каждый аккуратно завернут в бумажную салфетку.
К перекусу Илья Никитич готовился основательно и серьезно, никогда не жевал на ходу, не осыпал крошками бумаги на столе, не забывал тщательно вымыть руки, а после еды прополоскать рот. В тумбочке у него имелись красивые домашние тарелки, вилки, большая фарфоровая кружка. Из стаканов он чай никогда не пил. Кружка была английская, с изображением знаменитого «Большого Бена», Букингемского дворца и гвардейцев в высоких черных шапках. Чай он любил очень крепкий и сладкий, обязательно со сливками. Мама никогда не забывала положить ему несколько маленьких пластиковых баночек.
Перед едой Илья Никитич отправился в туалет с собственным душистым мылом в мыльнице, с собственным маленьким пушистым полотенцем, тщательно вымыл руки и причесался перед зеркалом. Вернувшись, выложил на тарелку пирожки, размешал в кружке сахар, напевая при этом высоким приятным тенором:
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали.
Он довольно точно, без фальши, выводил мелодию. Вообще, петь он любил, знал наизусть множество романсов и старинных русских народных песен. Мама, единственный близкий человек, всегда тихо выходила из комнаты, когда он начинал напевать. Это означало, что сын ее думает о чем-то серьезном и важном и трогать его не надо.
* * *
Сане Анисимову удалось ненадолго отключиться. Это нельзя было назвать сном. Он слышал все, что происходило вокруг, но глаза закрывались. Он очень надеялся, что если уснет, отдохнет хотя бы немного, то память восстановится.
Лавка была слишком жесткой, мешала вонь, мешало ощущение грязи. От одежды несло рвотной кислятиной. Руки стали липкими, не удалось смыть черную гадость, в которую погружали его пальцы для снятия отпечатков. Телефонные звонки, голоса, хлопающая дверь – все сливалось в один тяжелый, бесконечный гул. Саня уже спал, когда сквозь гул прорвался высокий дрожащий голос:
– Ну пожалуйста, я прошу вас… мой муж, Анисимов Александр Яковлевич… Я должна знать, что произошло, я должна поговорить с ним.
– Не положено. Вот когда все оформим по закону, тогда будет свидание, если следователь разрешит. А пока не положено. Девушка, вы мешаете работать, – прогудел в ответ добродушный бас.
Дежурный пил кофе из бумажного стакана и жевал сосиску в булке. «Убойное» дело передавалось в округ, задержанного Анисимова должны были через полчаса забрать из их отделения, дежурный по доброте душевной позволил его жене с младенцем подойти к «обезьяннику», но теперь очень сожалел об этом. Молоденькая мамаша с младенцем в сумке-«кенгуру» была настроена слишком уже воинственно. Надо выставить ее от греха подальше. В прошлом месяце взяли одного пацана с героином, так его жена явилась в отделение с трехмесячными близнецами на руках, стала требовать, чтобы ее тоже задержали и оформили вместе с детьми. Визгу было, не дай бог.
Саня открыл глаза и сначала увидел рот, измазанный кетчупом. В голове молнией мелькнула четкая картинка: доллары на светлом ковре, рот в красном соусе, пухлая полуголая девушка со звездами на тяжелых грудях, с подвижным мускулистым животом.
Ресторан… Вечером он был в ресторане. Судя по виду грудастой девицы, там показывали стриптиз. По ковру рассыпались деньги, много денег, кто-то из официантов должен вспомнить и Саню должен узнать. Хорошо, и что это даст? Да, он был в ресторане. А потом оказался в подъезде дома, где жил Бутейко. Как он туда попал? На метро? На такси? Или его подвезли к подъезду люди, с которыми он сидел в ресторане? С кем же он там сидел? Ведь не один, в самом деле!
Утром он говорил по телефону с Вовой Мухиным. Но Вова известный халявщик, он никогда никого не приглашает в рестораны. И еще вопрос, пожалуй, самый существенный, куда он мог положить «вальтер», когда вышел из дома?
Вечером при нем не было ни сумки, ни портфеля-кейса. Ему просто некуда было спрятать пистолет. Карманы дубленки слишком мелкие, есть только один вместительный, внутренний, но там лежал радиотелефон. Не стал бы Саня запихивать тяжеленький «вальтер» в карман пиджака. Это было бы заметно, пиджак сшит из тонкого шелковистого сукна.
Саня зажмурился, напрягся, пытаясь вытянуть со дна памяти еще что-нибудь важное. Сейчас он чувствовал себя значительно лучше, ему стало спокойней, и сразу удалось столько всего припомнить. Тряхнув головой, он заметил наконец силуэт своей Наташи. Она стояла спиной к нему. На ней были старые домашние джинсы и короткая ярко-красная куртка-пуховик. Светлые волосы кое-как сколоты пластмассовой заколкой.
– Наташка! – выдохнул он и вскочил с лавки, втиснулся лицом в решетку «телевизора».
– Саня… – Она повернулась. Щеки ее были мокрыми от слез. Димыч спокойно сидел, прижатый к маминой груди, в сумке-«кенгуру», с любопытством озирался по сторонам. Увидев Саню, тут же заулыбался, завертелся, поднял ручку в яркой полосатой варежке и громко произнес:
– Папа!
– Наташка, вспомни, кто заходил к нам в последние несколько дней, кто мог залезть в ящик письменного стола? – быстро, взахлеб, затараторил Саня. – Не вытирай пыль. Проверь, лежит ли коробка с патронами в твоей шкатулке на комоде. Открой ее ножом, не прикасаясь. На перламутре могут быть чужие отпечатки. Ты поняла? Вечером я был в ресторане. Позвони Вовке Мухину, я говорил с ним утром, может, он что-то знает про вечер…
– Саня, ты что, брал с собой пистолет?
– Я не помню…
– С ума сошел? Ты не мог взять пистолет. Вспоминай, где и с кем ты был! Сейчас же вспоминай!
– Не могу, Наташка, честное слово, дыра в памяти.
– Так, прекращаем это безобразие! – поднялся из-за стола дежурный. – Вы что, совсем очумели?!
– Наташка, слушай внимательно! Я не мог спрятать пистолет, когда шел в ресторан, ты поняла? Надо найти ресторан. Там была девка полуголая… доллары рассыпались.