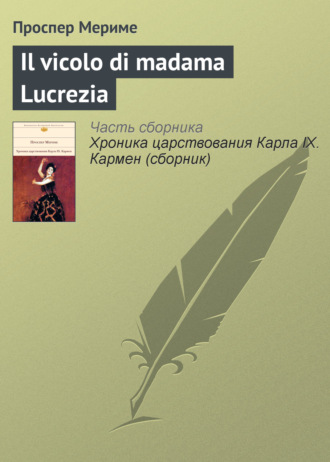
Проспер Мериме
Il vicolo di madama Lucrezia
Проспер Мериме
Il Vicolo di madama Lucrezia[1]
Мне было двадцать три года, когда я отправился в Рим. Отец мой дал мне десяток рекомендательных писем, из которых одно, не менее чем на четырех страницах, было запечатано. На конверте было надписано: «Маркизе Альдобранди».
– Ты мне напишешь, – сказал мне отец, – по-прежнему ли маркиза красавица.
Я с детства помнил висевшую над камином в его кабинете миниатюру, изображавшую очень красивую женщину с напудренными волосами, в венке из плюща, с тигровой шкурой через плечо. На фоне можно было прочесть: «Roma, 18**»[2]. Наряд этой дамы казался мне странным, и я не раз спрашивал, кто она такая. Мне отвечали:
– Вакханка.
Но ответ этот меня не удовлетворял; я даже подозревал, что от меня что-то скрывают, так как при моем невинном вопросе матушка поджимала губы, а отец принимал серьезный вид.
На этот раз, передавая мне запечатанное письмо, он украдкой взглянул на портрет. Я невольно сделал то же самое, и мне пришло в голову, не является ли именно эта пудреная вакханка маркизой Альдобранди. Так как я уже начал кое-что понимать, то я сделал немаловажные выводы из гримасы моей матушки и взгляда, брошенного отцом.
По прибытии моем в Рим первым письмом, которое я доставил по адресу, было письмо к маркизе. Она жила в прекрасном палаццо поблизости от площади Св. Марка.
Я передал письмо и визитную карточку слуге в желтой ливрее, который ввел меня в просторную гостиную, довольно плохо обставленную, темную и унылую. Но во всех палаццо Рима находятся картины больших мастеров. И в этой гостиной их было немало, причем несколько – весьма замечательных.
Прежде всего я заметил женский портрет, как мне показалось, работы Леонардо да Винчи. По богатству рамы, по тому, что он стоял на подставке красного дерева, видно было, что это – украшение коллекции. Маркиза не появлялась, и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть картину. Я даже поднес ее к окну, чтобы взглянуть на нее при более выгодном освещении. Это был, очевидно, портрет с натуры, а не фантазия, потому что такое лицо едва ли можно придумать: прекрасная женщина, с несколько полными губами, с почти сросшимися бровями, со взглядом одновременно надменным и ласковым. На заднем фоне был изображен ее герб с герцогской короной. Но больше всего меня поразил ее наряд: исключая пудру на волосах, он был совершенно такой же, как у вакханки моего отца.
Я еще держал портрет в руках, когда вошла маркиза.
– Совсем как отец! – воскликнула она, подходя ко мне. – Ах, эти французы! Не успел приехать, как уже завладел «Госпожой Лукрецией».
Я поспешил извиниться за свою нескромность и осыпал похвалами шедевр Леонардо, который я осмелился тронуть с места.
– Это действительно Леонардо, – сказала маркиза, – это портрет слишком знаменитой Лукреции Борджа. Из всех моих картин ваш отец больше всего восхищался этой… Но, боже мой, какое сходство! Я будто вижу вашего отца, каким он был двадцать пять лет тому назад. Как он поживает? Что поделывает? Не соберется ли он как-нибудь в Рим проведать нас?
Хотя на маркизе не было ни пудры, ни тигровой шкуры, я с первого же взгляда, силою вдохновения, узнал в ней вакханку моего отца. Двадцать пять лет, прошедшие с того времени, не могли уничтожить всех следов ее красоты. Только выражение лица изменилось, равно как и платье. Одета она была в черное, а тройной подбородок, важная улыбка, торжественный и просветленный вид ясно давали понять, что она ударилась в набожность.
Впрочем, она приняла меня как нельзя более радушно. Без лишних слов она предоставила в мое распоряжение свой дом, свой кошелек и своих друзей, в числе которых она назвала нескольких кардиналов.
– Смотрите на меня, – сказала она, – как на свою мать.
Она скромно опустила глаза.
– Ваш батюшка поручает мне присматривать за вами и давать вам советы.
И в доказательство того, что она не считает свои обязанности синекурой, она тотчас же начала предостерегать меня от опасностей, какие могут встретиться в Риме на пути молодого человека моего возраста, и умоляла меня избегать их. Мне следовало остерегаться дурной компании, особенно артистов, и водиться исключительно с людьми, которых она мне укажет. Одним словом, я выслушал форменную проповедь. Я отвечал почтительно, с подобающим лицемерием.
Когда я встал, чтобы уходить, она мне сказала:
– Я жалею, что мой сын, маркиз, в данный момент не здесь, а в Романье, в нашем имении, но я вас познакомлю со вторым моим сыном, Оттавио, который скоро будет монсеньором. Надеюсь, что он вам понравится и вы подружитесь, как этому и следует быть…
Она поспешно добавила:
– Потому что вы почти одного возраста, и он – юноша тихий и благоразумный, вроде вас.
Она тотчас же послала за доном Оттавио. Я увидел высокого молодого человека, бледного, меланхолического вида, с опущенными глазами, в котором сразу чувствовался святоша.
Не дав ему времени сказать что-либо, маркиза от его имени высказала готовность всегда и во всем служить мне. Он подтверждал глубокими поклонами каждую фразу своей матери, и мы условились, что завтра же он заедет за мною, чтобы показать город, а потом отвезет меня к матери, чтобы пообедать запросто в палаццо Альдобранди.
Не успел я пройти и двадцати шагов по улице, как позади меня раздался повелительный окрик:
– Куда это вы идете один в такой час, дон Оттавио?
Я обернулся и увидел толстого аббата, который, вытаращив глаза, осматривал меня с головы до ног.
– Я не дон Оттавио, – сказал я ему.
Аббат, поклонившись мне чуть не до земли, рассыпался в извинениях, и мгновение спустя я увидел, что он вошел в палаццо Альдобранди. Я продолжал свой путь, не особенно польщенный тем, что меня приняли за этого будущего монсеньора.
Несмотря на предупреждение маркизы, а может быть, как раз вследствие этого предупреждения, я поспешил разыскать квартиру одного знакомого мне художника и провел в его мастерской целый час, рассуждая о дозволенных и недозволенных средствах развлечения, которые мог бы мне доставить Рим. Я посвятил его и в свои отношения к семейству Альдобранди.
Маркиза, сообщил он мне, была когда-то очень легкомысленной женщиной, но потом, увидев, что время побед для нее прошло, ударилась в ханжество. Старший сын ее – грубое существо; он только и делает, что охотится да собирает деньги с арендаторов в своих огромных поместьях. Теперь хотят задурить второго сына, дона Оттавио, из которого намереваются сделать кардинала. Пока что он предоставлен иезуитам. Он никогда не выходит из дому один. Ему запрещено смотреть на женщин и делать хоть один шаг без того, чтобы по пятам за ним не следовал аббат, воспитавший его для служения богу. Аббат этот был прежде последним amico[3] маркизы, а теперь управляет всем в ее доме, пользуясь властью почти деспотической.
На следующий день дон Оттавио в сопровождении аббата Негрони – того самого, который накануне принял меня за своего воспитанника, – заехал за мною и предложил свои услуги в качестве чичероне.
Первым памятником, который мы осмотрели, была какая-то церковь. По примеру своего аббата дон Оттавио преклонил колени, ударил себя в грудь и принялся без конца креститься. Поднявшись, он показал мне фрески и статуи, о которых высказался с толком и хорошим вкусом. Это меня приятно удивило. Мы начали беседовать, и разговор его мне понравился. Некоторое время мы говорили по-итальянски. Вдруг он обратился ко мне по-французски:
– Мой наставник не понимает ни слова на вашем языке. Давайте говорить по-французски: так мы будем чувствовать себя свободнее.
От перемены языка молодой человек словно переродился. Ничто в его словах не напоминало больше священника. Мне казалось, что я разговариваю с каким-нибудь нашим либералом из провинции. Но от меня не ускользнуло, что он продолжал говорить все тем же монотонным голосом, часто до крайности не соответствовавшим живости его выражений. Очевидно, это был заученный прием, имевший целью обмануть Негрони, который время от времени просил объяснить ему, о чем мы говорим. Разумеется, наши переводы были чрезвычайно свободными.
Мимо нас прошел молодой человек в фиолетовых чулках.







