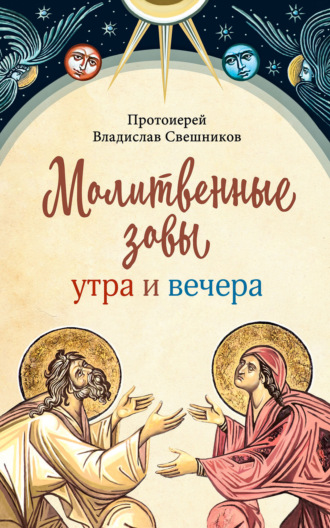
Протоиерей Владислав Свешников
Молитвенные зовы утра и вечера
Вступительные молитвы
Кажется, и не должно быть нужды специально заострять ваше внимание на тех молитвах, которые всегда – и дома и в церкви – предшествуют всякому молитвенному правилу. Необходимость сердечно всматриваться почти в каждое слово каждой молитвы вполне очевидна. И утром, и вечером, и в любое время дня, когда совершается, во всей своей полноте, какое-либо молитвенное правило в Духе Божественном, оно должно начинаться с прославления Бога: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» Ибо если творению предстоит Творец и переживание Творца для него, в его сердце, мертво с самого начала, то едва ли эта мертвенность сумеет ожить в дальнейшем сердечно-умственном переживании славы Божества. Если общепринятое прославление не переживается молящимися личностно в напряженном осознании величия Божия и радостном поклонении Ему, то, скорее всего, и дальнейшее воспроизведение молитвословий будет осуществляться без должного внимания ко всему, что произносится. Таким образом, прежде всего необходимо настроить себя в духе прославления Божества. Иначе – беда. И только через покаяние можно будет возвратить себя в верное переживание прославления (каясь в том, что не умеешь и не хочешь славить Бога: «Прости, Боже!», «Слава Богу!»).
В обычном (то есть осуществляемом по преданию) духовном строе жизни только в таком случае и может совершаться молитва Духу Святому – как Царю.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
«Царь Небесный» – этими словами именуется не только, как известно, Третья Ипостась Божества – Дух Святой, но и Первая Ипостась – Отец в Царстве Божием, и Вторая Ипостась – Сын Божий, Иисус Христос. Сие видно из Священного Писания: об Отце сказано – Господь сил, Той есть Царь славы (Пс. 23:10), о Сыне – Ты Царь Израилев (Ин. 1:49) – и из содержания многих общепризнанных христианских молитв, обращенных отдельно к Каждой из Ипостасей; об этом же свидетельствует христианское богословие в целом. То же обращение прилагается ко всей полноте Божества. Таким образом, обращение к Духу Святому – «Царю Небесный» – не умаляет, но и не увеличивает значения и величия Бога. Пусть каждый молящийся, начинающий молитву с этих слов, торжественно и радостно осозна́ет то, что он обращается к Третьей Ипостаси Божества, во Святой Троице поклоняемого, – а также все то, что из этого следует. Здесь можно к тому же отметить, что само слово «царь» в современной социально-политической действительности, выстроенной не по монархическому принципу и потому не обнаруживающей конкретных аналогов, могло бы вызвать у читателя недопонимание и поэтому неприятие. Но, слава Богу, в современной языковой исторической памяти это понятие пока еще сохраняется как образ высшей государственной власти. И даже, пожалуй, хорошо, что теперь слово «царь» в основном применяется для выражения высшей религиозной реальности.
«Утешитель». Это слово в молитве как раз направлено непосредственно к Третьей Ипостаси Божества, к Святому Духу. В Своей последней беседе с учениками, незадолго до предания Его на крестную смерть, Иисус Христос сказал: Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин. 14:26). Слово об утешении, в основном известное в своем нравственно-психологическом аспекте, уже в Ветхом Завете приобрело нравственно-духовный контекст: буду утешаться заповедями Твоими (Пс. 118:47). Еще более отчетливый смысл, одновременно нравственно-психологический и духовно-назидательный, оно приобрело в Новом Завете: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей… Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 1:3–5). Таким образом, понятие духовного «утешения» в новозаветное время все более конкретизируется и обретает жизненную актуальность. Пусть знает каждый христианин, пусть помнит, что для него теперь, при наличии и действовании в нашей жизни Святого Духа, и желательно, и естественно в обычных земных скорбях и напастях уметь искать и просить всяческого утешения, потому что нам известен Утешитель.
Именно этот призыв и имя Утешитель приобретает особенный смысл и значение для нас, человеков; оно – единственное, которое соотносит содержание нашей жизни с постоянной промыслительной деятельностью Божества. Оно примечательным образом является существенным для тех, кто, переживая многие горести своей жизни, евангельски рассматривает крестное содержание человеческого бытия, а значит, скорбные переживания для них есть некая неизбежность. Но как же тогда можно всегда радоваться, по слову апостола (см.: 1 Фес. 5:16)? Это возможно лишь тогда, когда источником таинственного и предметного действия утешения становится Сам Святой Дух.
О Ду́ше Святый, Утешителю! Прииди же и вселися в нас! О великая тайного Божественного утешения! О непрекращающаяся тайна Божественной любви!
«Дух истины». Это слово (и имя) дорого для тех, кому дорога́ на деле и сама истина. Блаженны алчущие и жаждущие правды (Мф. 5:6) есть одно из первых учительных слов Спасителя. Поиск правды в высочайшей степени (образ чего и есть алчба и жажда) – особенность тех, кто, услышав (или произнеся) слова «Дух истины», скажет себе: вот Кому следует молиться, и тогда молитва будет безошибочной. Ошибка – это нарушение, разрушение истины, ошибка есть грех. Это оказывается особенно верным, если рассматривать слово «истина» («правда») в нравственно-духовном контексте. Потому что «правда» есть праведное, правильное (особенно в этическом контексте) устроение бытия, во всей его полноте – «везде сый и вся исполняяй». Святая Церковь предлагает знание о Святом Духе как об объекте сопереживания высоконравственной жизни святых («сокровище благих») и о личном источнике бытия («и жизни подателю»). Само же молитвенное обращение к Нему по своему конкретному просительному содержанию отмечено чрезвычайной лаконичностью: мы просим о том, чтобы жизнь протекала в полном единстве с Богом – «прииди и вселися в ны»; об освобождении от нравственной нечистоты – «и очисти ны от всякия скверны»; и о пребывании во блаженной вечности – «и спаси, Блаже, души наша». Все три прошения находятся в тесной взаимосвязи настолько, что даже простое стремление к исполнению одного из них почти автоматически приводит к насыщенности всего молитвенного пространства личности, в величественной тайне ее духовного обращения: «Прииди, Блаже, и вселися в ны!»
Переживание святости и славы Божией, которое начинается уже здесь, при обращении к Царю Небесному, продолжается и далее и всегда, в полноте молитвенного смысла – требуя соответственного внутреннего наполнения. Иначе – и здесь, и далее, и всегда – может сказаться такая несообразность, при которой, с одной стороны, будут объективные слова молитвы, а с другой – личная ненасыщаемость ими сердца и ума, которые тогда уже окажутся наполненными неизвестно чем.
Дальнейшее последование неизменных молитвословий состоит прежде всего из известной, но загадочной и лаконичной ангельской песни: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас! – трижды повторяемой, со столь же лаконичным продолжением:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Здесь всё есть призыв к личной готовности для сердечного прославления Божества в Его Троичной святой экзистенции и бесконечном величии. И еще одно, главное слово во всей полноте бесконечной молитвенной повторяемости – это слово «помилуй», и неизвестно никакое другое императивное и просительное слово, настолько же обычное для повседневной религиозной обращенности. Столь милая нашему сердцу поразительная частотность этого слова в обычной личной и общецерковной практике с несомненностью свидетельствует о том, сколь необходимо вначале призывание, а за ним и действие Божественной милости – и всем, и каждому. Слишком понятно несовершенство личной внутренней и поведенческой действительности всех людей и предметных результатов такого несовершенства; следовательно, ясна и необходимость исправления, которое редко и безжизненно поддается собственным усилиям, а значит, необходимо действие высших сил – Божественной любви, милости. «Господи, помилуй!» – есть самое верное и лучшее слово неотступного обращения человека к Богу. И хорошо бы, если бы это слово на деле выражало для человека его постоянное сердечное желание. Это молитвословие может различным образом варьироваться, что следует даже из вышеприведенного молитвенного текста (например: «Пресвятая Троице, помилуй нас») и из разных других молитвенных чтений, включая все последование Божественной литургии; и как наиболее частые эти слова отмечаются в ектениях, но также встречаются и в других молитвах. (Здесь также можно отметить, что эти слова суть основные в известной Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!»)
Это означает, что общий, главный смысл обращенности человека к Богу, первичная цель его религиозных исканий заключается в постоянном желании заручиться милостью Божией в любом своем деле, и особенно – когда это дело имеет отчетливо выраженную духовную направленность, уж тогда-то точно без милости Божией не обойтись. Милость же Божия есть предметное выражение Божественной любви; она-то и взыскуется в действии Божественной энергии, в Божественной благодати, – как в общей всеобъемлемости, так и применительно к любой конкретности: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» И эти слова направлены к Богу главным образом ради взыскания от Него прощения, очищения от греха в тайне и таинстве Покаяния.
Нельзя не обратить внимания на то, что даже и в этих самых начальных молитвенных текстах предлагаются покаянные прошения: «Господи, очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония наша…» – в них заложена самая суть того смиренного покаянного умонастроения, которому отводится значительная роль и в утренних и в вечерних молитвах. «Очисти» – то есть сотвори так, чтобы сотворенное мною худое делание оказалось якоже не бывшим (а худое сказанное слово – якоже не сказанным). «Прости» – то есть сотвори так, чтобы не стало между нами никакого сердечного препятствия. Если же догадаться, что в этом контексте слово «немощь» употребляется в смысле нравственного знания, а «исцеление» относится к освобождению от греха («исцели немощи наша»), то исцеление и предполагает со стороны Царя Небесного совершение Им над нами предметного покаяния.
Наконец, введение и в утреннее, и в вечернее, и во всякое другое молитвенное правило предваряется молитвой Господней «Отче наш…», а самой молитве Господней предшествует первое славословие Пресвятой Троице: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».
К сожалению, в обычной православной практике реальный жизненный опыт покаяния, а особенно – реальный жизненный опыт славословия в целом выглядит глубоко удручающим (но в то же время может и должен быть и бывает весьма отрадным). По-видимому, сердечное состояние, относящееся к переживанию покаяния, и еще более – к переживанию славословия, далеко отстоит от того, которое предполагается соответствующими словами традиционных молитвенных текстов. Поэтому очевидно, что для тех, кто признаёт себя христианами, одной из первоначальных задач – и, соответственно, первичных установок христианского подвига – является воспитание духовного, благоговейного отношения к переживанию покаяния и славословия как важнейших аспектов духовного опыта, без которых религиозная жизнь, включающая в себя и молитву, беспредметна и иллюзорна, то есть практически невозможна.
Поэтому для многих людей очень правильным было бы начать свою духовную жизнь и молитвенное дело с самой простой молитвы «Господи, помилуй!», что означало бы: «Господи милостивый, молю Тя, научи меня любить и молиться, каяться и прославлять Тебя, ибо без этой духовной науки аз есмь ничтожество». Только постоянная готовность учиться – молить Бога о выведении нас из ничтожности к полноте духовного бытия – делает с нами все то, что сами мы оказываемся неспособными сделать.
Молитва Господня
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
У многих людей нашего времени существует некоторый психологический барьер, препятствующий простому сопереживанию этой молитве, которая, казалось бы, имеет вполне очевидный и здравый смысл. Что-то, похоже, произошло в минувшем столетии – некий серьезный нравственно-психологический сдвиг. Не только слова «Отец Небесный», но и гораздо более простое слово «отец», в его генетическом и этическом смыслах, практически испарилось из современной действительности. Трудно разобраться, какая из утрат произошла раньше – религиозная или нравственная; скорее всего, обе вместе. Но все же в обычной семейной жизни теперь почти не наблюдается такого глубокого уважительного отношения, которое прежде (до ХХ века) органично вплеталось в общую систему традиционных семейных ценностей, тогда еще религиозно обусловленных, и занимало в ней подобающее место.
В хорошей традиционной семье, заключающей в себе единство нескольких (двух-трех) поколений, старший отец являлся одновременно и главным отцом, авторитет которого в доме всегда был непререкаемым. С течением времени и с разделением одной большой патриархальной семьи на несколько меньших, авторитет отца теперь уже как главы такой относительно малой семьи по существу остался непререкаемым. Такая незыблемая авторитетность восходит к религиозному сознанию: при создании Евы после Адама решение Бога имело обоснование – сотворим ему помощника (Быт. 2:18), то есть второго по значению.
Для эпохи Ветхого Завета не было опытно незнакомым восприятие Бога как Отца в духовно-религиозном смысле. Только у пророка Исаии подобное понимание, в таком мистическом контексте, встречается дважды: имя Ему: Отец вечности (Ис. 9:6); и еще: Только Ты – Отец наш (Ис. 63:16). Такой же религиозный смысл обнаруживается и в словах Псалтири: отец сирот и судия вдов Бог (67:6); будет звать Меня: Ты отец мой (88:27). То же можно видеть и в других ветхозаветных текстах – не очень, впрочем часто. Но лишь в Новом Завете окончательно сформировалось отчетливое представление об отце не только в родовом и социальном контексте, но прежде всего – в абсолютном и доступном для постижения духовно-религиозном, о чем свидетельствует самая первая (Нагорная) проповедь: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:15). Наиболее частым и многообразным было евангельское употребление слова «Отец» прежде всего Самим Иисусом Христом, и более всего в ипостасном значении – как Отца Самого Иисуса, но также и в духовно-нравственном онтологическом смысле – как Отца всех людей.
Но такой подход должен быть понят, принят и усвоен в общем сыновнем переживании (как переживании Церкви). Переживание своего сыновства по отношению к Богу открывается и воспитывается и в семейных династиях, и в церковной практике. Не случайно же перед произнесением молитвы Господней священником в конце Божественной литургии возглашается: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати (называть) Тебе Небеснаго Бога Отца, и глаголати: “Отче наш…”» Такая смелость (дерзновение) призывания (или точнее – называния) стала возможной для людей вследстие откровения любви Отца Небесного; по слову апостола Иоанна Богослова: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3:1).
Само содержание молитвы Господней многократно описано и изучено. Необходима для каждого христианина лишь жизненная самопроверка (и желательно, чтобы она велась постоянно) – говорит ли в тебе подлинно сыновнее переживание? Если имеется у молящегося интенция (решимость) к тому, чтобы в его сердце предметно освящалось всесвятое имя Господа («да святится имя Твое»), и чтобы несомненно желательным, ожидаемым становилось Его Царство («да приидет Царствие Твое»), и чтобы была готовность к принятию и исполнению Его воли («да будет воля Твоя»), – то так оно и будет.
Но для того чтобы воля Божия была принимаема человеком, ему прежде всего необходимо избавиться от своей грешной воли («на небеси и на земли»). Утоление всякой земной и небесной существенной (по нашему ощущению) потребности (хлеб земной и хлеб небесный) в совершенной полноте становится возможным и исполняемым тогда, когда воспринимается человеком в контексте Божественной воли. Всецелое исполнение воли Господней становится для человека верно и ревностно приемлемым, когда он готов победоносно пройти через все ниспосылаемые искушения (с великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения. – Иак. 1:2) и в результате освобождается от окончательной и смертоносной диавольской гибели («но избави нас от лукаваго»).
Таковым представляется общее начало всякого молитвенного правила, особенно утренних (начало жизни) и вечерних (конец жизни) молитв.
Начало дня

Начальные тропари
Открывается утро. Начинается день… Начинается новая жизнь. Как ее начать? Конечно, вернее и содержательнее всего – с молитвы. Лучше всего со славословной. Предпочтительнее – состоящей из трех слов: «Слава Тебе, Господи!» Но известна и общепринятая норма – утреннее правило.
Правило, предлагаемое традицией, начинается с простой трехтропарной конструкции[2], не требующей никакого специального размышления, ввиду ее предельной очевидности: Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас. «Блаже» и «Сильне» суть простые обозначения Божества, в Его наиболее значимых проявлениях – Добро и Всесилие (грамматически это церковнославянская форма существительного в звательном падеже, образованная от прилагательного – «Благой» / «Сильный»). Глагол «помилуй» при этом в духовном отношении является самым значимым при обращении к Богу. Хорошо, произнося слова этой молитвы, и на самом деле уже быть «вставшим» ото сна, а затем тут же, хотя бы и в мысленном коленном поклонении, «припасть ко Господу». «Востание от сна» означает не только физиологическое пробуждение, но нечто гораздо большее – психологически-духовное переживание своего изменившегося состояния, связанного с переходом от положения горизонтального, характерного для сна, к вертикальному, свойственному бодрствованию и деятельности. Замечателен также первый момент этого бодрствования – «пение», то есть эстетически-духовная манифестация: «ангельскую песнь вопием Ти». Хорошее начало дня, от которого можно ожидать и хорошего продолжения. Замечательно также, что обращение идет от первого лица множественного числа – «помилуй нас». «Нас» – потому что все мы, припадающие к Богу, нуждаемся в помиловании. А кто эти «мы»? Все, кто уже к этому моменту могут считать себя проснувшимися. И ты, проснувшийся, имеешь право говорить от имени всех, кто сознаёт необходимость своего обращения к Богу с самого раннего утра. И наше обращенное к Богу сердце оказывается не эгоцентрически замкнутым, но открытым для всех познавших любовь.
Следующий из этой триады тропарей еще более расширяет пробудившееся ото сна сердце: От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи, во еже (для того чтобы) пети Тя, Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас. Сразу же за простым утверждением, что воздвижение человека от сна есть дело Божие, следуют молитвенные прошения о том, чтобы Им же, во-первых, были просвещены ум и сердце, а во-вторых, были отворены уста человека. Первое возвещает печальную весть о том, что едва пробудившееся от сна сознание оказывается поначалу весьма тусклым и духовно не определившимся и потому требуется особенное действие Божие, чтобы ум и сердце приобрели особое духовное качество – стали «просвещенными». Второе – необходимо особое действие Божества, чтобы уста разомкнулись ради воспевания Божества, во Святой Троице поклоняемого, в чем проявляется изначальная и верная обращенность человека к Богу, – а не ради бессмысленного произнесения каких-то, не находящих отклика в сознании, слов (и здесь снова, как и в первом тропаре, предлагается пение).
Наконец, последний, третий тропарь, добавляющий некоторое дополнительное содержание: Напрасно (внезапу – внезапно) Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи[3]: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас. «Обнажаются» (открываются) и дела наши, порою, от времени до времени, сокрытые от нас самих в сонном забытьи ночи, но для Бога открытые всегда. На этот раз речь идет о промыслительном делании Божества о человеке, пробуждающемся новым утром для обновленной жизни, поэтому самым верным именованием в обращении к Богу оказывается – Судия, видящий и оценивающий не только дела, но и внутреннее состояние человека, его мотивации, довольно часто этически и психологически негативные. Бог в духовно-нравственном отношении определяет и оценивает дела человека, совершаемые им при свете дня; немало греховных ошибок может случиться и ночью, и милостивый Судия оценивает их по справедливости; и «со страхом» ожидает человек этой оценки в брезжущем свете наступающего дня: «Святый Боже, помилуй нас», так часто совершающих эти ошибки! И так замечательна и умилительна просьба ко Господу о помиловании, которого мы ожидаем со страхом Божиим и с неугасающей, радостной надеждой – «Богородицею помилуй нас»; радостно переживается нами и то, что с рассветом начинающегося дня мы включаем в нашу молитву обращение к драгоценной, любимой нами Пресвятой Матери Божией.


