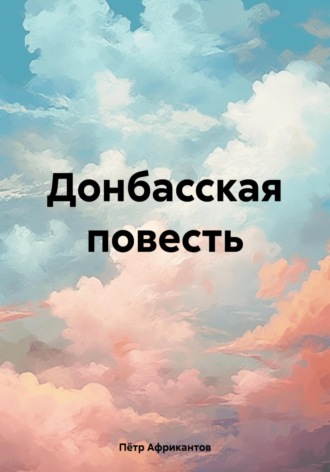
Пётр Петрович Африкантов
Донбасская повесть
– Вы об этом хотели спросить? – Проговорил мальчик, нескладно улыбнувшись.
– И об этом тоже, – промямлил я, не ожидая такое увидеть. Для меня само проживание ребёнка в этих условиях было весьма тягостным событием, а тут мальчик-калека. К этому я ещё не привык. С этим надо было сжиться. Наконец, мы по ходу, сделали несколько крутых поворотов и очутились перед дверью. Провожатый открыл её небольшим толчком, шагнул за порог, мы последовали за ним, ои очутились в достаточно просторном подвальном помещении. Уставшие разведчики повалились на пол. Сказалось долгое внутреннее напряжение. Днями ходить по лезвию ножа, в поисках американской гаубицы, опасаясь напороться на украинские засады и мины, то ещё чувство.
– Са-са-ня! Ты с кем? – раздался из дальнего угла тихий, испуганный заикающийся голос девочки.
От неожиданности я вздрогнул. Оказывается мальчик здесь жил не один.
– Не боись. Это свои.
Наш проводник, которого назвали Саней, поставил свечку в стакан на тумбочке. Комната озарилась желто-оранжевым спокойным светом. Немного присмотревшись, я увидел не просто помещение, а небольшую домовую слесарную мастерскую. Такие мастерские обычно устраивают в подвалах многоэтажных домов, для ремонта трубопроводов и отопительных систем. Окон в помещении нет. Посреди комнаты стоит железный слесарный стол, на котором с одного бока привинчены слесарные тиски, а с другой стороны прикручен трубогибочный механизм. Напротив, у стены, на узком верстаке, сложены обрезки уголков и труб. К столу прислонена дышлом тележка с большими металлическими колёсами, а на ней два баллона и шланги намотаны. В углу, слева, стоит широкая железная кровать с матрацем и разным тряпьём. Из-под тряпья высунулась девочка-семилетка и изучающе, смотрит на нас широко открытыми глазами. Она худа. Даже жёлто-оранжевый огонёк свечи не может скрасить её бледность.
– Это моя сестрёнка Лиза, – пояснил Саня. – Предваряя вопросы, мальчик стал рассказывать. – У меня ногу бандери снарядом отстрелили. В больнице остатки стопы отняли, потом, как зажило, домой отправили. Стал учиться ходить на протезе. Затем начались сильные обстрелы, всё рушилось. Мы в подвал жить перебрались – я, Лиза и мама. Нас там, в подвале, много было. А однажды так жахнуло, что подвал раскурочило, многих убило. Кто уцелел, стали разбегаться кто куда. Мама Лиза и я перебрались в подвал этого дома. Стали жить в нём. Потом пришли наши. Люди вышли из подвалов и стали встречать. Мы так радовались, так радовались. Только эта радость была не долгой, потом снова пришли бандери и стали искать тех, кто встречал. Кто-то донёс на нас. Смотрим, на дороге остановился броник. Из него вышли четверо, видим – к нам идут. Мама говорит: «Бегите, прячтесь, это фашисты». Мы с Лизой убежали, спрятались, а мама нет. Её избили.
– Она вся была синяя, – вставила девочка.
– С нашей помощью мама кое-как добралась до кровати. Нам никто не пришёл пособить, боялись, что завтра придут и к ним. – Продолжил брат. – А потом, нацики просто ездили на танке по посёлку и стреляли в дома, как в тире. Наш дом сложился, превратившись в кучу строительного мусора. Мы оказались погребёнными под кирпичными и бетонными обломками. – Мальчику стало трудно говорить, он отвернулся в сторону, чтобы скрыть выступившие слёзы, потом справился с приступом горя и продолжил. – Через неделю мама умерла. Её даже перевязать было нечем. Она всё лежала, слабела и гладила Лизу по голове. Потом шевелиться перестала, только из глаз слёзы текли и текли. Мы её тут за стенкой похоронили. – И он кивнул на кирпичную стену позади себя. – Выкопали с Лизой яму, какую смогли. Сплошная глина, не укусишь, стянули туда тело и закопали. Стали жить вдвоём. Лиза, после похорон мамы, говорить перестала. Так на неё это всё повлияло. На меня тоже подействовало, но я старше и крепче.
– Ме-меня Саня игрушками ле-лечил, – вставила девочка.
– Лечил, да не долечил, – смутился мальчик. – Просто сестра в ступор после похорон впала, была как деревянная, чтоб развеселить, стал ей игрушки лепить из глины. С могилки глины наберу, чуть водички добавлю и леплю, понемногу отошла. Правда, теперь заикается. Раньше этого не было.
– Как ты про игрушки додумался? – полюбопытствовал я.
– До войны ходил в кружок, там лепить и научился. – Глаза паренька засветились, Видно вспомнил приятное из прошлой жизни. – Мы там не только игрушки из глины делали, но и из соломы, и из лыка… У меня из глины лепить, лучше всего получалось. Я даже в соревнованиях участвовал. Нам учитель говорил, что глиной разные болезни лечат, вот я и стал глиняные игрушки для Лизы делать…
Неожиданно девочка вытащила из-под тряпья глиняного баранчика и показала нам. По технике исполнения игрушка была далека до совершенства, но какой в ней таился заряд жизнеутверждения и утешения, просто поразительно. Взрослые такой игрушки никогда не слепят, их задавит рационализм, а скульпторы, потому не слепят, что давно разучились смотреть на мир детскими глазами. У баранчика был совершенно изумительный взгляд. Я даже в начале не понял в чём тут дело, но присмотревшись, уяснил, откуда исходит эта серьёзная детская наивность. Источалась же она из глаз животного. Удивительно, они находились на разном уровне. Один глаз, с небольшой косиной, был чуть выше, а другой, капельку поменьше размером, стоял пониже и взгляд его уходил чуть в сторону и вверх. Это придавало баранчику несказанную выразительность и простоту. Я улыбнулся изделию, и мне показалось, что баранчик мне тоже подмигнул. «Вот оно великое детское искусство самовыражения. – Подумал я. – Ничто не сравнимо с ним. Никто и никогда так не слепит игрушку по-настоящему, кроме ребёнка, не проявит её душу и не задаст ей промыслительной цели в чистосердечной простоте. Дети – самые великие игрушечники на земле. Эти мастера творят даже в лихолетье, даже находясь на границе бытия и небытия, как сейчас».







