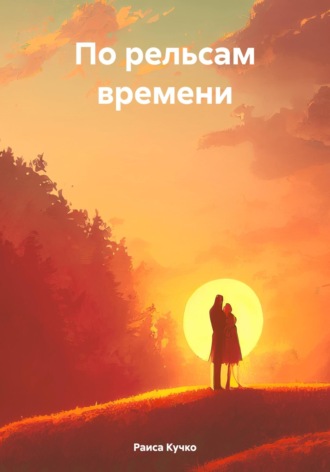
Раиса Кучко
По рельсам времени
Село Абаза (Красноярский край, Хакасия, районный центр Таштып) 1940-1942 гг.
Передвигались на телеге, было очень страшно спускаться с гор и форсировать горные речки, а их там было очень много. Нас, детей, брали пограничники к себе на лошади и вброд перебирались, а телегу тянули через реку при помощи лошадей. Наконец добрались до военного городка, это было большое село Абаза, сейчас это городок вокруг горы (Большой Голпан, малый Голпан). Военный городок находился недалеко от реки Абакан и от районного центра Таштып. На берегу реки в Таштыпе была школа, куда я пошла в 1-й класс в августе 1940 года. До школы было 3-5 километров. Так что летом мы ходили пешком, а зимой детей возили на лошади. Места там удивительной красоты: тайга, горы, горные речки. Семьи пограничников жили в деревянных домах, кухни общие, мылись в бане. Периодически чистоту в домах проверяла специальная комиссия. Даже в самые тяжелые времена отмечали праздники, но никогда не было спиртного, сухой закон соблюдался строго.
Запомнилась ночь 22 июня 1941 года. Отец пришел со службы и сказал маме, что началась война с Германией. Помню, как мама и отец стояли у окна, горела тускло керосинка, и папа сказал ей, что, как и многие офицеры, подал рапорт, попросился добровольцем пойти на фронт и еще говорил, что война не будет долгой. Никто в ту ночь не спал и нам, детям, стало очень страшно, хотя мы тогда еще не знали, что означает это слово – война. На второй день уже многие семьи стали провожать на фронт своих близких – отцов, сыновей и дочерей. Рапорт отца пойти на фронт не был принят, ему ответили, что пока его отложили, и он необходим здесь. Он подавал рапорт несколько раз, и всё напрасно. В военном городке было много детей, отцы которых ушли воевать в первые дни войны. Я помню такую семью Ашурковых. После того, как их отец ушёл на фронт, его сын – его звали Спартак, он был только на год меня старше, создал отряд из детей, чтобы помогать семьям, чьи отцы воевали. Его все дети очень уважали и любили, он защищал тех, кого обижали, и придумывал различные игры и весёлые забавы. Время было очень тяжёлое, но дети есть дети: играли, веселились, учились. Осенью школьники 3-4 классов помогали колхозникам убирать картофель. Запомнился на всю жизнь урок, который преподал нам отец о том, что нельзя брать то, что тебе не принадлежит. Дело было так – мы шли мимо колхозного поля, где было много созревшего гороха. Мы его немножко пособирали и принесли домой, думая, что нас похвалят за это. Но вместо этого отец сказал, что вызывает милицию, и нас посадят за воровство. И пришлось нам снова идти на поле, и весь горох мы оставили на нём. Наш отец был очень честным человеком и свое понятие о жизни он передал нам своим примером.
Зимой в посёлке обязательно заливали горку, с которой с удовольствием катались дети, а вечером – взрослые. Дети играли летом в лапту, а зимой катались на лыжах и санках. Зимы в этих местах были очень суровыми, иногда мороз достигал 50 градусов. Однажды пришла весна очень рано, и с ней прилетели птицы. Их было очень много, даже старожилы не помнили такой ранней весны. Появились даже почки на деревьях. И тут вернулся холод, и бедные птицы замерзали на лету и падали на землю. Мы их собирали и пытались отогреть, но не могли, как ни старались. И ещё помню ужасную летнюю грозу. День стал ночью. Мы лежали на полу и дрожали от страха, а за окном полыхали молнии, одна за другой. Это продолжалось очень долго. Лил дождь как из ведра, порывы ветра вырывали с корнями деревья. Казалось, наступил конец света. Впервые мы увидели, что такое разбушевавшаяся стихия. А потом выглянуло солнце, и стало светло. Тут мы увидели у нас в комнате огромной величины бабочку, очень редкую в тех местах. Как она попала к нам – загадка. Мама открыла окно, и бабочка улетела. До сих пор я помню, как она была прекрасна, а размер ее внушал даже страх. Много интересного было связано с этой заставой. Мы так же, как и все, завели кур, и у меня появился любимый петушок, ручной. С ним у меня связаны первые понятия о несправедливости, которые случаются в жизни. Я помню до сих пор – прихожу из школы, все едят суп с курицей (моим петушком), у меня началась истерика. По сей день я не ем курятину – такой пережила стресс. Особый разговор о нашей собаке – овчарке по клички Ритка. С ней отец ходил на службу и охоту. Она была на редкость умной и воспитанной собакой и очень преданной отцу. О ней я расскажу позже.
Дорога на таежную заставу. Будни пограничной жизни
Зимой 1942 мы снова отправились в путь. Завернули нас в тулупы и платки, погрузили в открытый кузов машины, и мы отправились в долгий путь по горным дорогам, по сугробам и ухабам. Машина часто буксовала, было страшно от мысли, что машина сломается, мы замерзнем, и нас никто не найдёт. На одной из остановок в лесу замёрз движок у машины и, пока его отогревали, собака Ритка убежала в лес. Отец долго звал её, но тщетно, и мы должны были ехать дальше, так как начинало темнеть. Мы поехали дальше, все ревели. Вдруг увидели нашу собаку, бежит за машиной, нашлась!
Приехали на заставу, название не помню, где-то недалеко от Минусинска. Вокруг горы, непроходимая тайга. Деревянный двухэтажный дом, две большие комнаты и кухня. На первом этаже жили пограничники, на втором мы. Женщин было двое – мама и кухарка. Снега выпадало так много, что в нём могла утонуть даже лошадь, и такие случаи бывали. Ночами волки подходили прямо к дому и выли. Было очень страшно и холодно. Зимой, чтоб набрать воды, вырывали в снегу траншеи к роднику, и по этому ходу полз с ведром пограничник с ведром, набирал воды и полз обратно. Таких ходок он совершал множество. И когда полностью наполнял водой огромный бак, установленный на санях лошадки, вёз на заставу. И так каждый день. Я помню, как этот молодой боец плакал и просил поменьше брать воды, так как с ужасом думал, что ему нужно будет ехать снова за водой. Продуктов было мало, и мы постоянно голодали. В свободное время пограничники придумывали всякие развлечения. Особенно им нравилось издеваться над кухаркой. Это была не молодая местная сибирячка, молчаливая и добрая. Так вот, пограничники стали специально вызывать неприязнь у местного петуха к женщинам. Они это делали так – переодевались в женское платье, надевали платок на голову и начинали петуха дразнить. Петух, естественно, очень злился и нападал. Было очень смешно, пока это не коснулось нашей мамы. Она не могла выйти даже во двор и в туалет. Везде её подстерегал петух и старался вскочить ей на спину и клюнуть. Мама везде ходила с палкой, слыша за собой насмешки. Однажды пограничники приручили медведя. Вначале он приходил ежедневно к кухне, и ему давали поесть. Потом ему всё понравилось, и он начал приходить часто, стал совсем ручным, но мы его всё же боялись. Но однажды с медведем случилась беда, его застрелил присланный из штаба на границу молодой офицер. Дело было так. Когда он подъезжал к заставе, то наш медведь бросился со всех ног его встречать, он всегда так делал, чтобы получить вкусненькое. Его так приучили. Так вот этот офицер испугался сильно, решил, что медведь хочет его загрызть, выстрелил из пистолета и убил мишку на глазах у многих. Все были очень расстроены, а мы плакали. Этот офицер в дальнейшем сам попросился о переводе, так как ему стало тяжело налаживать контакт с подчиненными, которые его просто возненавидели.
Хакасия – край, богатый речками, горами и непроходимыми лесами. Мы полюбили его, особенно наш отец. После войны он часто говорил, что мечтает вернуться туда снова. Он часто вспоминал, как с проводником, хакасом по имени Кайла, часто охотился и привозил на заставу разную дичь, множество белок и целые мешки с кедровыми орехами. Я помню, как однажды отец случайно подстрелил оленя, он его только ранил. Убивать пожалел и привёз домой. Думал, что сможет вылечить, но не смог. Всем было оленя очень жалко, и после этого отец охотился только на белок и уток. Помню, на заставу пригнали 3-х коров, они были очень худые и больные, мы их лечили и кормили. Потом одна корова отелилась, и мы ходили смотреть на телёнка, он был мокрым и очень хорошеньким. Прожили мы на этой заставе недолго, 3-4 месяца. И снова в путь, всё дальше на Восток. Так как путь предстоял долгий, собаку пришлось отдать. Мы уезжали на машине, она смотрела нам вслед и лаяла, а мы плакали.
Снова в путь. Игнашино. (Станция Ерофей Павлович, Амурская обл.)
Было начало весны. Снова ехали на машине, переправились через Енисей на очень большой лодке, на реке был ещё лёд. Потом по железной дороге: Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, станция Ерофей Павлович. Потом снова на машине до посёлка Игнашино, который находился на берегу Амура. Изумительная природа – цветущий багульник, большие заросли шиповника, горы, маленькая речка, впадающая в Амур и сам Амур. На Амуре – военные катера и специальные вышки, на которых находились пограничники-наблюдатели. Вечером на берегу реки песок выравнивался, дабы были видны следы нарушителей. В течение тех лет, что мы там жили, были задержаны несколько шпионов. О нашем отце писала даже газета «Красная звезда». Он был представлен к награде и награжден медалью «За боевые заслуги» №539487. Такие медали вручались в те годы только за особые заслуги. Мы очень гордились отцом.
Шел 1943 год. В Игнашино располагался пограничный отряд. Граница проходила по Амуру (граница с Китаем, Маньчжурия – она была оккупирована Японией). Амур в этом месте не такой широкий, и был хорошо виден противоположный берег, виден был и японский патруль. Половина реки считалась принадлежащей Японии, половина нашей. Когда плыл японский катер по Амуру, то японцы часто ставили пластинку с русской песней, особенно любили ставить «Катюшу». Часто на границу доставлялись японские перебежчики-шпионы. Им надевали мешки на головы и вели в штаб. Когда мы спрашивали у отца, почему у них голова в мешке, то он нам говорил, что японцы сильно бегают, и если снять мешок, убегут. Мы ему верили. Там я окончила два класса – 3-й и 4-й. Учительница у нас была замечательной, мы её очень любили. Помимо учёбы мы собирали хворост для школы и устраивали концерты для местных жителей. Местные дети научили нас жевать смолу и есть полезные растения. Всё лето мы купались в Амуре. Однажды я в нём чуть не утонула. Я тонула недалеко от берега, и поэтому никто не поверил моему зову о помощи, и я еле-еле сама выбралась на берег. Однажды, это было зимой, отец вернулся из командировки и вытащил из кармана тулупа маленькую овчарку. Мы дали ему кличку Мороз, тогда на дворе был сильный мороз. Жил он у нас на кухне, а когда подрос, его привязали во дворе. Он стал очень злым псом, и мы его все боялись. Он любил только маму. Потом отец отвёз его на заставу и отдал в школу для собак.
Как-то у нас появился маленький поросёнок. Однажды мы хотели показать поросёнка своим друзьям, открыли дверцу, и дети стали его ловить. Поросёнок испугался и побежал прямо к Амуру и поплыл. Он переплыл Амур и, нарушив границу, попал в руки японцам. Мы видели, как они его ловили, и смеялись. А нам досталось от родителей. После побега поросёнка пришлось купить нового – свинку Машку, которую мы очень любили, часто мыли, ухаживали за ней. С едой было туго, и поэтому пришлось Машку заколоть. Чтобы нас не травмировать, ее закололи, когда мы спали. Природа на Амуре была удивительно красивой, особенно хороша была рыбалка. Все там рыбачили. Отец был заядлым рыбаком, нам приходилось копать ему червей и ловить кузнечиков. Всем выдавал по коробочке, и мы носились по полю, ловили кузнечиков. Когда рыба шла на нерест, её можно было ловить руками. На берегу стояло множество тазов, кастрюль и бочек, а взрослые и дети стояли в холодной воде и выхватывали из неё рыбу руками и бросали на берег.
Мангут. Тяжелое испытание. 1943-1945 гг.
В конце лета мы снова отправились в путь, двигались уже с Востока на Запад. Сначала ехали на машине, потом по железной дороге, потом снова на машине.
Доехали до станции Дарасун, потом на телеге добрались до села Мангут. В Мангуте стояла пограничная часть, было много семей военных, много детей. Даже был детский сад, куда пошли Рая и Виктор. В селе была только начальная школа, но, так как я пошла в 5-й класс, то меня отправили в интернат в Иркутске. Из Читы до Иркутска и обратно нас, нескольких детей, вез какой-то военный. В интернате было голодно, холодно и тоскливо. Там я встретила Победу. О моей жизни в интернате можно писать много. Это были не детские годы переживаний и слез. И сейчас, вспоминая свою там жизнь, мне хочется плакать.
Я завидовала своим сестрам, что они дома с мамой, а я одна одинешенька, среди чужих людей, озабоченных своей не легкой жизнью, бытом. Мне было 11 лет, считалась большой, но стресс без семьи был сильным. Новая обстановка, незнакомые люди, холодно, голодно. Помню, воспитанники приготовили праздничный концерт к 7-му Ноября. Нас пригласили в воинскую часть. После концерта всех вкусно накормили. Это была настоящая радость. Удивительно, что в столь суровые времена в интернате нас учили вышивать, и для этого приглашали специалиста, уроки у нас вела жена профессора Иркутского университета. По какой-то причине в Иркутске оказался раненый американский летчик, его очень дружелюбно встречали горожане. В школе во время большой перемены умудрялись нас чем-то кормить. Это было настолько невкусно, что девочка, сидящая со мной за одной партой, не могла это есть и отдавала мне, а я была постоянно голодной и ела всё. Мама этой девочки работала на заводе, там получала муку и сама пекла хлеб, запах этого хлеба я помню до сих пор. Эта девочка иногда меня угощала этим хлебом. День Победы встретила в Иркутске. Всеобщему ликованию не было границ. Только моя любимая учительница в тот день кричала и плакала от горя – в тот день она получила похоронку на мужа.
В интернате я получила три письма – от мамы, от бабушки из Курска и от отца. После экзаменов (я окончила 5 классов) специальный человек приехал за нами, а нас было 4-5 школьников, и повез нас на поезде до станции Дарасун, где нас встретили и доставили в Мангут. В Мангуте мама уже готовилась к отъезду к отцу.
Мангут. Война. Уход отца на фронт. Голод
Отец ушёл на фронт в действующую армию в начале (январь – февраль) 1944 года, и мне не удалось с ним проститься, так как я была в Иркутске. Для мамы наступили очень трудные дни. Вещи потеряли свою цену и смысл. Золото менялось на муку и крупу. Отец писал матери:
«Продавай всё, спасай детей!» Мы до войны жили хорошо. У нас было много дорогих вещей, и благодаря им мы не умерли с голоду. Забыть эти годы просто невозможно. Отец, когда уходил на фронт, не успел оформить нам аттестат, и мы остались без пайка, который полагался семье офицера. Работы для мамы на заставе никакой не было, к тому же она сильно заболела и чуть не умерла. Её, чтобы спасти, отвезли в больницу на другую заставу, и мы долгое время жили одни. Помогали нам соседки, варили супы и каши. Потом вернулась мама и привезла мешок сухарей, которые она насушила нам, когда лежала в больнице, из белого хлеба, который отдельно давали ей, так как она была очень слабенькой. Мама тайком сушила сухари для нас. Тяжкая доля легла на плечи нашей мамы. Ей тогда не было и 30 лет. Мама продала и обменяла на еду всё ценное, что у нас было, но всё равно этого не хватало, и мы сильно голодали. От отца не было никаких известий, и мы готовились к худшему. Осенью 1944 года Рая пошла в 1-й класс, а Галя – во 2-й, Виктор ходил в детсад. Голодные, плохо одетые, мы, как могли, старались хорошо учиться. В классах было очень холодно, и дети, каждые 15 минут, грели руки у печки, в которую бросали очень сырые поленья. Поленья дымили и слепили глаза. Писали на газетах и старых брошюрах. Учебники переходили из одних рук в другие. Редко у кого были книги – художественная литература. С нового года в школе ученикам стали выдавать по маленькому кусочку хлеба. Рая вспоминала позже, как она старалась половинку кусочка этого хлеба отнести маме, но у дома ее поджидал всегда голодный младший брат, и она отдавала хлеб ему, так как он сильно плакал и просил. Чтобы не замерзнуть, мама сходила к начальнику заставы и попросила привезти нам дров, так как наступили холода. Дрова привезли, это были сырые брёвна, и нам пришлось их пилить самим. Мама с одной стороны, Галя и Рая – с другой. Сил у них было маловато, промучились до вечера, сильно устали. Потом помогла соседка. Она сходила в воинскую часть, к генералу, и нам прислали на помощь солдат. Мы ели жмых и овёс. Каждый день со школы нас ждала лепёшка из не очищенного овса, от неё была сильная изжога, но другой еды просто не было. На карточки нам на всех выдавались половина буханки хлеба и маленький довесочек. И, кто первый добегал до мамы, которая несла хлеб, тот получал этот довесок. Волшебный запах этого хлеба я помню до сих пор.
Время шло, а от отца не было писем. Приходили похоронки на заставу, и мама была в отчаянии и не знала, жив ли отец, и как жить дальше. Нужда и голод постоянно стояли у порога нашего дома и ждали, кто кого одолеет. Тут соседка, жена молодого офицера, стала просить маму отдать им в дочки Галю. Детей у них не было, а Галя им очень нравилась. Они уезжали служить на другую погранзаставу, и мама решила Галю отдать, спасти хоть её от голодной смерти. Галя уехала вмести с ними, но вскоре вернулась. Она сильно скучала, плакала, и они её вынуждены были привезти назад. Как-то мама договорилась, и нам разрешили приходить на солдатскую кухню, когда солдаты поедят. Галя, Рая и Виктор, все втроем, с котелком каждый день направлялись за кашей. Галя стыдилась этого и просила Раю сходить на кухню, а они с братом ждали её на пригорке. Повар брал котелок и большим черпаком накладывал дымящуюся перловую кашу. Иногда каша была пшённой, и тогда её было значительно меньше. Когда Рая показывалась на горизонте, Галя и Виктор были уже рядом. Нужно было ещё мужество, чтобы донести кашу домой. Обычно Галя и Виктор просили чуть-чуть попробовать, а потом их трудно было остановить, и поэтому Рая, зная это, иногда им этого не давала сделать, и только дома мама кашу делила всем поровну. Летом старшие дети с погранзаставы организованно отправлялись на сбор лесных ягод в тайгу для фронта. Из ягод варилось варенье. Жили в шалашах и палатках. Было много змей и комаров, но все относились к этой затее серьёзно и ответственно. На сбор ягод ездили я и Галя, Рая очень просилась, но её не взяли.
Письмо отца. Снова в путь. Дорога до Москвы
В мае 1945 года мы получили письмо от отца из г. Болехова, Западная Украина. Он служил в военной контрразведке в/ч. 2081 1-го Украинского фронта и боролся с бандами бандеровцев, которые совершали ужасные злодеяния на освобождённой от немцев территории Украины. Отец написал, что вскоре заберёт нас к себе, как только сможет. И мы стали готовиться в путь. Отец прислал за нами солдата и продукты. Но в конце июня пришло другое письмо, уже с другого места службы – Литвы, город Утены. Чтобы оформить все необходимые документы, мама упросила одного офицера, он ехал в центр, в Читу, и отдала ему за это отцовские хромовые сапоги. Наконец мы тронулись в путь. Из Мангута до Читы мы ехали на машине через горные перевалы. Навстречу нам ехали машины с военными, которых перебрасывали на войну с Японией. В Чите было трудно с билетами, и мы 5 суток жили на вокзале, до отказа забитом разного рода людьми. Наш солдат нашёл себе пристанище в городе и до самого отхода поезда не появлялся. К посадке на поезд он опоздал, и мама не знала, что делать. Вагоны люди брали штурмом, и попасть в вагон было не реально. Помогла нам одна добрая женщина, жена генерала. Её посадил в поезд проводник заранее, и она заняла нам места. Людей было в вагоне много, даже на полу сидели, на крышах вагона тоже. Ехали до Москвы очень долго, около 10 суток. В Омске мама солдата отпустила, у него там были родные, а сам он был родом с Украины, а мы ехали в Литву. Чем мама нас кормила? – не знаю, но, насколько я помню, отец прислал деньги и продукты с солдатом. Наш маршрут можно проследить по карте, проезжали все крупные города Сибири, Урала и озеро Байкал, и Волгу, проезжали мимо разбитых городов и сгоревших деревень, от которых остались одни трубы и печки. Наконец мы приехали в Москву. На Ярославском вокзале нас встретили тетя Катя и новый солдат, которого прислал отец. Мы переночевали у тети Кати, а утром поехали на метро на Белорусский вокзал. В метро Галя потерялась, мы её долго искали и сильно волновались. Нам помог милиционер её найти. Когда мы сели в поезд, солдат стал просить маму его отпустить, так как он не видел свою мать с начала войны, а она жила в Москве. Тётя Катя тоже стала уговаривать маму его отпустить, так как до Вильнюса уже недалеко, и нас там должен встретить отец. Мама дала согласие, о котором позже пожалела. Солдат, кажется, его звали Николай, и тётя Катя посадили нас в поезд, и мы поехали в Вильнюс. Литва. Июнь 1945г. Дорога до города Утены. Мимо пепелищ, оставленных войной.
Мы проезжали мимо разрушенных войной городов: Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, а также мимо бывших деревень и посёлков. Вокзалов в городах не было, одни стены, к которым прижимались люди со своим скарбом и детьми, в ожидании поездов. Было много инвалидов без ног и рук. Многие из них ходили по вагонам и просили у пассажиров милостыню. Вместо деревень чернели одни трубы печей. Из окна вагона мы смотрели на то, что оставила война, и этот ужас остался в памяти на всю жизнь. В Вильнюсе нас должен был встретить отец, но он опоздал, и мама, на свой страх и риск, отправилась в путь сама. До города Утены шел поезд, и мы забрались в товарный вагон. Там сидели одни литовцы, языка мы не знали и молчали. У нас уже не было никакой еды и денег. Литовцы ели и смотрели на нас, а мы на них. Затем на какой-то остановке сели еще пассажиры. К нам подсела молодая полька и предложила нам с ней поесть. Дала нам хлеба, сала и по яйцу. Мы смотрели на маму и ждали разрешения взять это угощение. Эта женщина ехала домой из концентрационного лагеря и сама много пережила. Даже тяжкие испытания, выпавшие на её долю, не смогли убить в ней чувства доброты и сочувствия к другим, не знакомым ей людям.


