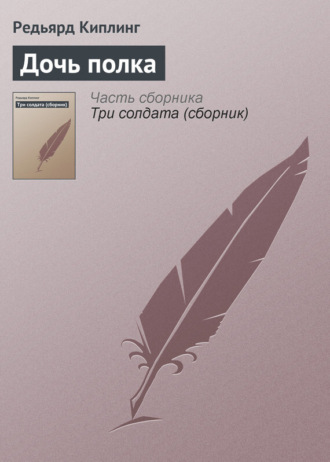
Редьярд Джозеф Киплинг
Дочь полка
Молите Бога и всех святых католической церкви, чтобы вам никогда не увидеть холеры в воинском поезде. Это все равно, что увидеть суд Божий. Командир остановил поезд и телеграфировал главному начальству о том, что случилось, и что он просит помощи. И стали мы ждать помощи с расстояния в триста миль. Велели нам устроить лагерь близ станции, в чистом поле. На самой станции никого не было, кроме телеграфиста, которого привязали к стулу, остальные же обитатели все удрали, когда услышали, что у нас в поезде холера. Очень просто: жизнь никому не надоела.
Выскочили мы из вагонов и, словно угорелые, шатались и падали друг на друга. Тут и больные, и здоровые, и женщины, и дети – все в одну кучу. Был с нами один полковой врач, но что же ему одному было делать? Не разорваться же на части. Одних умерших мы привезли на станцию семь человек, да двадцать семь больных. В лагере женщины сбились в одну кучу и подняли отчаянный вой. Поглядел на них командир, да и говорит:
– Баб вон из лагеря. Пусть устраиваются в перелеске напротив. Не место им тут с нами.
Шарик сидела на своей постели, положенной прямо на земле, пока не были еще готовы палатки, и успокаивала плачущую Дженси. Девочке шел пятый годочек, и она из младших сестер и братьев одна осталась у матери. Когда Шарик услыхала, что офицеры гонят баб вон из лагеря, она встала и во весь свой голос крикнула:
– Ну, это дудки, мы отсюда ни за что не пойдем! Дудки!
И крошка Дженси тоже кричит:
– Дудки! Ни за что не пойдем отсюда!
Обернулась Шарик к другим бабам и говорит:
– Поняли, что тут с нами хотят сделать? Мужья наши и парни умирают, а нас посылают спать. Неужто вы на это согласны? Люди мрут, мучаются, пить хотят, так неужели мы их оставим без всякой помощи? Разве так можно? Берите ведра, миски, кастрюли – все, что есть, черпайте воду из колодца и поите больных. Это будет дело.
Взяла сама ведро, из которого лошадей поят, а девочке, которая тянулась за ней, дала шлем с головы умершего, и стали они обе, мать и малютка-дочь, подавать пример прочим бабам. Встретила Шарик своего мужа, да и говорит ему:
– Мак-Кенна, дорогой супруг мой, – говорит, – скажи нашим, чтобы не робели. Скажи, Шарик к ним катит с водичкой живой. Напоит их и смертушку от них отгонит.
А людям, действительно, нужно было прежде всего воды, и только воды. Многим другого больше и не понадобилось. И так все обрадовались этой помощи, что и сказать невозможно. Словно ангел какой к ним с неба спустился, чтобы утешить их в последний час. Страх, что с нами тогда делалось. Многие ничего и не поняли, а просто валились с ног и спрашивали друг друга: «Что это такое с нами? За что нас Господь покарал?» А тут и Шарик с девочкой прикатились. Что делает и говорит мать, то и девочка. Мать поднимает голову бедным умирающим и просто задохнувшимся от жары, поит их свежей водой и говорит про то, что теперь, Бог даст, им будет лучше, а завтра и совсем поправятся. Раскраснелась вся, потом обливается, запыхалась, а говорит ласковые слова, каких наши ребята и сроду, может быть, не слышали. И девочка тоже старается. Хоть маленькая еще была по годам, а по росту и по силам – куда старше; могла тоже голову поднять умирающему и подавать ему пить, а своим тоненьким голоском так хорошо повторяла материнские слова насчет того, что, мол, теперь полегчает, а назавтра «дядя» и совсем поправится и опять молодцом будет. И, вправду, больше тридцати человек утром другого дня уже настолько поправились, что и не чувствовали больше ничего. Почти столько же вновь заболело. А бабы всю ночь за ними ходили и устали не знали. И Дженси лишь ненадолго прикорнула где попало. Оттащила ее мать под дерево и оставила там одну спать, и сама опять за водой к колодцу, а оттуда к больным. Проснулась малютка и опять за дело, и так далее, пока…







