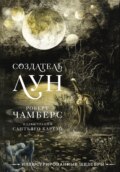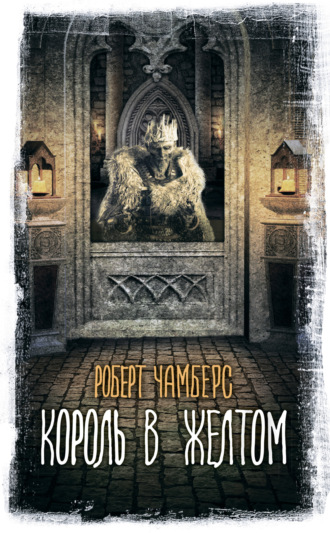
Роберт Чамберс
Король в желтом
© Перевод. Г. Эрли, 2022
© Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Моему брату
Шторм бьет о скалы вал за валом,
И в озеро два солнца пали,
Часы теней уже настали
В далекой, далекой Каркозе.
Черны и странны в небе звезды
И странны луны ночью поздней,
Но их странней лик мрачный, грозный
Потерянной древней Каркозы.
О песнь Хиадеса, что зреет,
Где Короля отрепья реют,
Умрешь ты, прозвучать не смея,
Неслышная, в мрачной Каркозе.
Душа, умолкни, – петь нет мочи.
И слез не изольют уж очи, –
Иссохнут, сгинут скорбной ночью
В утраченной темной Каркозе.
Песнь Кассильды. Король в желтом.Акт 1. Сцена 2[1]
Реставратор репутации
I
Не смейтесь над безумцем. Его сумашествие длится дольше, чем наше… В этом вся разница.
К концу 1920[2] года правительство Соединенных Штатов завершило программу, принятую в последние месяцы правления президента Уинтропа[3]. В стране было спокойно. Созданные профсоюзы разрешали вопросы оплаты труда. Война с Германией, захватившей остров Самоа, прошла без последствий для республики. Вторжение и оккупация Норфолка были забыты благодаря череде морских побед и окружению генерала фон Гартенлауба в штате Нью-Джерси. На сто процентов окупились инвестиции в Кубу и Гавайи. Самоа в качестве угольного придатка вполне оправдывала расходы. Оборону страны подняли на нужную высоту. Города на побережьях укрепили. Генеральный штаб организовал армию по прусской системе, ее численность увеличили до 300 000 человек, не считая миллиона резервных. Шесть новейших эскадр, оснащенных крейсерами и боевыми кораблями, патрулировали все морские акватории, и запаса пара хватало, чтобы не упускать из виду внутренние воды.
Властелины с Западного побережья наконец осознали, что одной любви к родине недостаточно, чтобы достойно представлять ее за границей, и что дипломатический колледж необходим так же, как юридические школы. Нация процветала. Чикаго, ненадолго парализованный вторым великим пожаром[4], восстал из руин во всем своем царственном блеске и стал лучше, чем белый город, восстановленный на скорую руку только к 1893 году. Повсюду трущобы сменялись роскошными зданиями, и даже в Нью-Йорке внезапная тяга к красоте выместила большую часть убогих архитектурных затей. Улицы расширили, вымостили, осветили, высадили деревья, разбили площади, снесли часть железных дорог, а вместо них проложили метро.
Новые правительственные здания и казармы в архитектурном представлении были безупречны. Каменные набережные, окаймлявшие остров, превратились в парки. Местное население восприняло это как благодать небес. Принесло свои плоды государственное финансирование театра и оперы. Национальная художественная академия Соединенных Штатов стала ничуть не хуже классических европейских школ.
От последних договоров с Францией и Англией мы только выиграли. Выдворение евреев-иностранцев в качестве превентивной меры, заселение нового независимого негритянского государства Суани, контроль за иммиграцией, новые законы, касающиеся натурализации, и постепенная централизация исполнительной и законодательной власти – все это способствовало национальному спокойствию и процветанию. Правительство решило проблему коренных американцев – индейские рейнджеры в туземных костюмах превратились в послушный инструмент министра лесного хозяйства, и нация вздохнула с облегчением. После созыва на конгресс всех религиозных организаций фанатизм и нетерпимость исчезли с лица земли, а доброта и милосердие сблизили враждующие течения, люди заговорили, что на свете наступило царствие Божье, по крайней мере на том свете, который назывался Новым.
Самосохранение превыше всего, так что Соединенные Штаты со стороны наблюдали, как Германия, Италия, Испания и Бельгия корчились в муках анархии, а Россия, затаившись за Кавказским хребтом, подминала под себя эти страны одну за другой. Лето 1899 года в Нью-Йорке знаменовалось демонтажом железных дорог. В 1900 году снесли статую Доджа. Следующей зимой открылась многолетняя кампания за отмену законов, запрещающих самоубийства. В апреле 1920 года она окончилась тем, что в Вашингтон-сквере открыли первые государственные Палаты смертников.
* * *
В тот день я по одному делу побывал у доктора Арчера на Мэдисон-авеню. Четыре года назад я упал с лошади, и с тех пор меня время от времени беспокоили боли в области шеи и затылка. А четыре месяца назад я наконец излечился от них, и в тот день доктор отослал меня со словами, что я совершенно здоров. По правде сказать, его гонорар был чересчур высок, но я заплатил ему сполна. Я не забыл, как четыре года назад доктор Арчер совершил врачебную ошибку. Меня в бессознательном состоянии подняли с тротуара и отнесли к нему домой. Кто-то из милосердия послал пулю в голову моей лошади. Доктор объявил, что мой мозг поврежден, поместил меня в свою частную клинику и принялся лечить как умалишенного. Наконец он признал меня выздоровевшим, и, хотя я всегда оставался в здравом уме и был не менее нормален, чем он, все же я «заплатил за науку», как он шутливо говорил, и после этого вышел из клиники. Тогда я сказал ему с усмешкой, что непременно поквитаюсь с ним за его ошибку, а он в ответ от души рассмеялся и попросил меня звонить ему время от времени. Я так и делал, надеясь когда-нибудь ему отплатить. Он не давал мне шанса сделать это, но я был терпелив, я умел ждать.
Падение с лошади, к счастью, не имело для меня дурных последствий, напротив: весь мой характер изменился к лучшему. Из ленивого молодого хлыща я стал активным, энергичным и во всем умеренным, но прежде всего… Прежде всего – честолюбивым. Только одна вещь доставляла мне беспокойство. Сколько я ни смеялся над собой, она продолжала меня тревожить.
Пока я лежал в клинике, впервые купил и прочел «Короля в желтом». Помню, после первого акта мне пришло в голову, что это напрасная трата времени. Я вскочил и зашвырнул книгу в камин. Том ударился о решетку и застрял на ней, раскрывшись. Если бы тогда мои глаза не упали на открытую страницу и не остановились на первой строке второго акта, я не вернулся бы к этой пьесе. Но я наклонился, чтобы подтолкнуть книгу в огонь, прочел и с криком ужаса или, быть может, острого наслаждения, пронизавшего все мое естество, выхватил ее из пламени и утащил в спальню. Там я читал и перечитывал ее без конца, плакал и смеялся, сотрясаясь от нервной дрожи. И теперь меня тревожит, что я никак не могу забыть Каркосу, где в небесах черные звезды, где тени человеческих мыслей удлиняются после полудня, когда два солнца опускаются в озеро Хали. Мой разум навсегда сохранил память о Бледной Маске. Я молюсь, чтобы Бог проклял драматурга, как драматург проклял мир этим неземным творением, ужасным в своей простоте, непреодолимым в истине – весь этот мир будет лежать во прахе перед Королем в желтом.
Когда французское правительство изъяло переведенные экземпляры, только что прибывшие в Париж, весь Лондон, конечно, хотел это прочесть. Известно, что книга распространялась, как эпидемия, из города в город, с континента на континент. Повсюду ее запрещали, конфисковывали, осуждали в прессе и в церкви, шельмовали даже самые авангардные литературные критики. Не то чтобы эти злые страницы нарушали табу, или обнародовали запретные доктрины, или возмущали чьи-то убеждения. Книга попросту не вписывалась ни в один канон, хотя было единодушно отмечено, что само Искусство было посрамлено в пьесе «Король в желтом», и все понимали, что человеческая природа не может выдержать такого накала и продолжать жить, осмыслив слова, скрывающие в себе чистейший яд. Наивная банальность первого акта только усиливала зловещие последствия дальнейшего чтения.
Но я отвлекся. В тот день 13 апреля 1920 года, когда я шел от доктора Арчера по Мэдисон-авеню, открылись первые правительственные Палаты смертников. С южной стороны Вашингтон-сквер, между Вустер-стрит и Пятой авеню. Квартал, который раньше состоял из множества обветшалых старых зданий, где были разбросаны кафе и ресторанчики для эмигрантов, был выкуплен правительством еще зимой 1898 года. Французские, итальянские кафе и рестораны снесли, весь квартал огородили позолоченной железной оградой и превратили в прекрасный сад с газонами, клумбами и фонтанами. В центре сада стояло небольшое белое здание строгой классической архитектуры, окруженное цветущими купинами. Шесть ионических колонн поддерживали крышу, а единственная входная дверь была отделана бронзой. Перед дверью установили скульптурную группу «Судеб» – работу молодого американского художника Бориса Ивейна, умершего в Париже, когда ему было всего двадцать три года.
Шла церемония открытия, когда я переходил Университетскую площадь и входил в сквер. Я пробрался сквозь молчаливую толпу зрителей, но на Четвертой авеню меня остановил кордон полиции. Драгунский полк выстроился буквой «п» вокруг Палат смертников. На трибуне, обращенной к Вашингтон-сквер, стоял губернатор штата Нью-Йорк. За ним переминались мэр Нью-Йорка и Бруклина; генеральный инспектор полиции; комендант правительственных войск; полковник Ливингстон – начальник гвардии президента Соединенных Штатов; генерал Блаунт – комендант острова Говернорс, командующий гарнизоном Нью-Йорка и Бруклина; адмирал Баффби, руководивший Северным флотом; генерал-лейтенант Лансефорд; персонал благотворительного национального госпиталя; сенаторы Вис и Франклин от Нью-Йорка и комиссар общественных работ. Трибуна была окружена эскадроном гусар национальной гвардии.
Губернатор заканчивал отвечать на короткую речь главного врача. Я услышал, как он сказал:
– Законы, запрещающие самоубийство и предусматривающие наказание за попытку самоуничтожения, отменены. Правительство сочло целесообразным признать право человека на прекращение существования, которое стало невыносимым из-за физических или психических страданий. Мы считаем, что изъятие таких людей из общества пойдет ему на пользу. После принятия закона количество самоубийств в США не возросло. Теперь, когда правительство решило создать Палаты смертников в каждом городе, поселке и деревне, нам предстоит выяснить, примет ли предоставленную помощь та часть человеческих существ, среди которых ежедневно появляются новые жертвы. – Он помолчал, обернувшись к белому зданию за трибуной. Вокруг воцарилась мертвая тишина. – Здесь безболезненная смерть ждет того, кто больше не в силах переносить жизненные страдания. Если вы ищете смерти, вы найдете ее, – затем, обратившись к начальнику гвардии президента, добавил: – Объявляю Палаты смертников открытыми, – и оглядев огромную толпу, еще раз отчетливо повторил: – Граждане Соединенных Штатов Америки, от имени правительства объявляю Палаты смертников открытыми.
Торжественность момента была нарушена резкой командой – гусарский эскадрон двинулся вслед за губернаторским экипажем, драгуны развернули строй и вытянулись вдоль Пятой авеню в ожидании командующего гарнизоном, конная полиция двинулась за ними.
Я оставил толпу смотреть на белые мраморные Палаты смертников с разинутыми ртами, пересек Пятую авеню и пошел по западной стороне к Бликер-стрит. Затем свернул направо и остановился перед темной лавкой с вывеской:
«Хауберк, оружейник»
В дверном проеме я увидел Хауберка. Он сидел в дальнем конце зала и, увидев меня, сердечно воскликнул:
– Входите, мистер Кастанье!
Его дочь Констанс поднялась мне навстречу, когда я переступил порог, протянула мне прелестную ручку. При этом я заметил на ее лице румянец разочарования и понял, что она ожидала другого Кастанье, моего кузена Луи. Я усмехнулся ее смущению и похвалил рукоделие – она вышивала на куске ткани, перенося на него рисунок с цветной тарелки.
Старый Хауберк клепал поножи от каких-то старинных доспехов. Тинг-тонг! Его молоток мелодично звенел в этой чудесной лавке. Затем он бросил молоток и принялся возиться с маленьким гаечным ключом. Мягкое бряцание кольчуги вызывало во мне дрожь удовольствия. Мне нравилось, как звенит сталь, ударяя по стали, нравилось, как молоток стучит о поножи и как бряцают кольчуги. И это была единственная причина, из-за которой я навещал Хауберка. Сам лично он никогда меня не интересовал, как и Констанс, если не считать того, что она была влюблена в Луи.
Иногда эти мысли не давали мне спать по ночам. В глубине души я был уверен, что все будет хорошо и что я должен устроить их будущее так же, как собирался позаботиться о добром докторе Джоне Арчере. Тем не менее я никогда не стал бы утруждать себя посещенями Хауберка, если бы, как я уже сказал, не был так очарован музыкой звенящего молотка. Я часами сидел, слушал и слушал, и, когда солнечный луч падал на инкрустированную сталь, это производило на меня нестерпимое впечатление. Мои глаза останавливались, расширяясь от удовольствия, каждый нерв натягивался как струна, пока движение старого оружейника не перекрывало доступ солнечного света. Затем, все еще глубоко взволнованный, я откидывался назад и вновь прислушивался к шороху полировальной ткани – шшшик! шшшик! – затирающей ржавчину на заклепках.
Констанс склонилась над вышивкой, держа ее на коленях, время от времени она останавливалась, чтобы лучше рассмотреть рисунок на цветной тарелке из Метрополитен-музея.
– Для кого это? – спросил я.
Хауберк объяснил, что его назначили ухаживать не только за драгоценными доспехами из Метрополитен-музея, но и заботиться о нескольких частных собраниях. Эти поножи они с клиентом обнаружили в маленьком парижском магазинчике на набережной Орсе. Хауберк лично вел переговоры о покупке, реставрировал их, и теперь доспехи полностью собраны. Он положил молоток и прочел мне лекцию по истории этих лат и о том, как они переходили от владельца к владельцу, начиная с 1450 года, пока их не приобрел Томас Стейнбридж. После распродажи его великолепной коллекции клиент Хауберка выкупил доспехи, но без поножей. Их искали до тех пор, пока почти случайно они не обнаружились в Париже.
– И вы настойчиво продолжали поиски, не зная наверняка, сохранились ли они? – удивился я.
– Разумеется, – невозмутимо ответил он.
Вот тогда я впервые заинтересовался Хауберком.
– Видимо, вам предложили хорошее вознаграждение? – предположил я.
– Нет, – смеясь, ответил он. – Сами поиски – вот моя награда.
– Разве вам не хочется разбогатеть? – с улыбкой спросил я.
– Единственная цель – стать лучшим из лучших в моем деле, – серьезно сказал он.
Констанс спросила, видел ли я открытие Палат смертников. Она заметила, как утром по Бродвею прошла кавалерия, и хотела посмотреть на церемонию, но отец попросил закончить рукоделие, и по его просьбе она осталась дома.
– Вы давно видели вашего кузена, мистер Кастанье? – спросила она, и ее мягкие ресницы при этом чуть дрогнули.
– Нет, – небрежно ответил я. – Полк Луи находится на маневрах в округе Вестчестер.
Я поднялся, взявшись за шляпу и трость.
– Пойдете наверх, к этому чокнутому? – покачал головой старый Хауберк.
Если бы он знал, как претит мне это слово, он бы никогда не использовал его в моем присутствии. Оно пробуждает во мне такие чувства, которые мне даже не хочется объяснять. Я спокойно ответил ему:
– Пожалуй, загляну к мистеру Уайльду на минутку-другую.
– Бедняжка, – сказала Констанс, покачивая головой, – должно быть, тяжко годами жить в одиночестве несчастному, искалеченному, полубезумному. Это очень любезно с вашей стороны, мистер Кастанье, навещать его так часто.
– Я думаю, что он великий грешник, – заметил Хауберк, вновь взявшись за молоток. Я прислушался к золотому звону пластины. Когда он закончил, я ответил:
– Нет, он не злодей и не сумасшедший. Его разум – удивительное хранилище, откуда можно извлечь такие сокровища, на приобретение которых нам с вами потребовались бы годы.
Хауберк засмеялся:
– Он знает историю, как никто другой. Ни одна, даже самая незначительная деталь от него не ускользнет, а его память настолько совершенна, настолько точна в мелочах, что если бы Нью-Йорк знал о существовании такого человека, то воздавал бы ему почести.
– Чушь, – пробормотал Хауберк и наклонился, чтобы найти заклепку на полу.
– Неужели? – сказал я, пытаясь подавить свою ярость. – Значит, это чепуха, что щитки и левый набедренник от эмалированных доспехов, известных как «Эмблема принца», можно найти среди кучи театральных декораций, сломанных плит и тряпья, сваленного на чердаке Пелл-стрит?
Хауберк выронил молоток на землю, наклонился за ним и нарочито спокойно спросил:
– Откуда вы знаете, что в «Эмблеме принца» недостает щитков и левого набедренника?
– Я не знал, пока мистер Уайльд не сказал мне об этом на днях. Он сказал, что эти предметы – на чердаке дома 998 по Пелл-стрит.
– Чушь! – воскликнул он, но я заметил, как дрожит его рука под кожаным передником.
– Значит, чепуха и то, что мистер Уайльд постоянно называет вас маркизом Эйвонширским, а мисс Констанс…
Я не закончил, потому что Констанс вскочила с места с нескрываемым ужасом. Хауберк посмотрел на меня и медленно разгладил кожаный передник.
– Это невозможно, – заметил он. – Мистер Уайльд может знать многое…
– Например, насчет «Эмблемы принца», – перебил я.
– Да, – медленно продолжал он. – Насчет доспехов тоже, может быть… Но он ошибается насчет маркиза Эйвонширского… Маркиз много лет назад убил человека, оклеветавшего его жену, и бежал в Австралию, где ненадолго пережил свою супругу.
– Мистер Уайльд ошибается, – пробормотала Констанс.
Губы ее побелели, но голос оставался нежным и спокойным.
– Как вам будет угодно. Предположим, что мистер Уайльд ошибается, – согласился я.
II
Я поднялся привычным путем по трем полуразрушенным лестничным пролетам и постучал в маленькую дверь в конце коридора. Мистер Уайльд открыл, и я вошел.
Он закрыл дверь на два замка и придвинул к ней тяжелый сундук. Только после этого подошел и уселся рядом со мной, глядя мне в лицо глубоко посаженными бесцветными глазами. Шесть новых царапин покрывали его нос и щеки, а серебряные проволочки, идущие к искусственным ушам, были смещены. Я подумал, что он никогда прежде не выглядел так чудаковато. Ушей у него не было. Взамен он цеплял себе искусственные уши, но теперь тонкая проволока, на которой они держались, чуть сдвинулась. Эти уши были его единственной слабостью. Выполненные из воска и окрашенные в розовый, по цвету они сильно отличались от его желтушного лица. Лучше бы он предоставил себе роскошь сделать протез для левой руки, на которой не было пальцев от рождения, но этот изъян, казалось, не доставлял ему никаких неудобств, а вот искусственными ушами он был вполне доволен. Маленького роста, едва ли выше десятилетнего ребенка, с великолепно развитыми руками и мощными, как у спортсмена, бедрами. Все же самое замечательное в мистере Уайльде было то, что у человека невероятного ума и образования может быть такая странная форма головы. Она была гладкой и вытянутой, как у тех несчастных, которые проводят всю жизнь в приютах для слабоумных. Многие считали его сумасшедшим, но я точно знал, что он обладает таким же здравым умом, как и я.
Я не отрицаю, что он был эксцентричен; его манеру держать кота и дразнить его до тех пор, пока тот в ярости не бросался ему в лицо, не назовешь иначе как эксцентричной. Я никогда не мог понять, почему он держал это существо и какое удовольствие находил, запираясь в комнате с этим угрюмым, злобным зверем. Помню как-то раз, изучая рукопись при свете сальной свечи, я взглянул на мистера Уайльда – тот взгромоздился на корточки на высоком стуле, и глаза его горели от возбуждения. Кот, лежавший дотоле у плиты, крался к нему. Прежде чем я успел шевельнуться, зверь прижался животом к земле, задрожал и прыгнул на хозяина. Подвывая и отплевываясь, они принялись кататься по полу, царапая и кусая друг друга, пока кот не издал душераздирающий вопль от боли и не скрылся под шкаф. Мистер Уайльд перевернулся на спину с поджатыми и скрюченными конечностями, похожими на лапки умирающего паука. Несомненно, он был эксцентричен.
Мистер Уайльд вскарабкался на свой высокий стул и, бросив на меня изучающий взгляд, открыл амбарную книгу с потрепанными уголками.
– «Генри Б. Мэттью, – прочел он. – Помощник бухгалтера в компании «Уисот, Уисот и Ко», торговля церковными украшениями. Обратился 3 апреля. Репутация пострадала из-за лошадиных бегов. Известен как мошенник. Репутацию вернуть к 1 августа. Гонорар пять долларов».
Он перевернул страницу и провел пальцем по мелко исписанным колонкам.
– «П. Грин Дюсенберри, священник евангелической церкви, Фейрбич, Нью-Джерси. Репутация пострадала в дешевых притонах. Вернуть срочно. Гонорар 100 долларов…»
Он откашлялся и продолжил:
– «…Обратился 6 апреля».
– Судя по всему, в деньгах вы не нуждаетесь, мистер Уайльд? – спросил я.
– Послушайте дальше. – Он снова откашлялся. – «Миссис К. Гамильтон Честер из Честер-парка, Нью-Йорк. Обратилась 7 апреля. Репутация пострадала в Дьеппе, Франция. Вернуть к 1 октября. Гонорар 500 долларов. Примечание. Капитан Гамильтон Честер, капитан корабля «Эвелэнч», возвращается в порт с эскадрилией Южного моря 1 октября».
– Что ж, – сказал я, – выходит, возвращать репутацию прибыльно.
Его водянистые глаза нашли мои.
– Я просто хотел показать, что был прав. Вы говорили, что в этом ремесле нельзя преуспеть, что даже если я добьюсь успеха в некоторых случаях, то мои расходы многократно превысят прибыль. Сегодня у меня на службе пятьсот человек, им платят мало, но работают они с энтузиазмом, который очевидно порождается страхом. Эти люди входят во все слои общества, некоторых можно назвать столпами самых причудливых социальных институтов, другие считаются опорой и гордостью финансового мира, третьи обладают влиянием среди творческой элиты. Я выбираю их на досуге из тех, кто откликается на мои объявления. Это совсем нетрудно, ибо все они трусы. Я могу утроить их число за двадцать дней, если захочу.
– Они могут ополчиться против вас, – заметил я.
Он потер большим пальцем свои изуродованные уши и поправил восковые накладки.
– Думаю, нет, – задумчиво пробормотал он. – Мне редко приходилось применять кнут, всего один раз. Кроме того, им нравится их жалование.
– И как же вы применяете кнут? – поинтересовался я.
Его лицо вдруг стало неприятным, а глаза превратились в пару зеленых искр.
– Я приглашаю их к себе немного поболтать, – объяснил он.
Стук в дверь прервал его, выражение лица его вновь стало дружелюбным.
– Кто там? – спросил он.
– Мистер Стейлетт, – раздалось за дверью.
– Приходите завтра, – ответил мистер Уайльд.
– Но это невозможно, – начал тот.
Лающий голос мистера Уайльда перебил его:
– Приходите завтра, – повторил он.
Мы услышали, как кто-то отошел от двери и свернул за угол к лестнице.
– Кто это?
– Арнольд Стейлетт, владелец и главный редактор великой «Нью-Йорк дейли».
Он забарабанил по амбарной книге обрубками пальцев и добавил:
– Я совсем мало ему плачу, но он вполне доволен нашей сделкой.
– Арнольд Стейтлетт! – повторил я в изумлении.
– Да, – самодовольно откашлявшись, сказал мистер Уайльд.
Кот, который тем временем вошел в комнату, поколебался, посмотрел на хозяина и зашипел. Мужчина спрыгнул со стула, присел на корточки на полу, взял животное на руки и приласкал. Кот перестал шипеть, и вскоре раздалось громкое мурлыканье, которое только усиливалось по мере того, как карлик его гладил.
– Где заметки? – спросил я.
Он указал на стол, и я в сотый раз взял в руки стопку рукописных листков, озаглавленных «Королевская династия Америки».
Один за другим перелистывал я зачитанные страницы, которые никто, кроме меня, не держал в руках. Я все это знал наизусть. «Каркоса, Гиады, Хастур, Альдебаран». «Кастанье, Луи де Кальвадос, родился 19 декабря 1877». – Я вчитывался в записи с напряженным вниманием, останавливаясь, чтобы повторить вслух, особенно упирая на «Хилдред де Кальвадос, единственный сын Хилдреда Кастанье и Эдит Ланд Кастанье, первый из рода», и так далее, и так далее. Когда я окончил, мистер Уайльд кивнул и прокашлялся.
– Кстати, о ваших законных притязаниях, – сказал он, – как поживают Констанс и Луи?
– Она любит его, – просто ответил я.
Кот на коленях вдруг повернулся и вцепился ему в глаза. Он сбросил его и устроился на стуле напротив меня.
– А как доктор Арчер? Впрочем, этот вопрос вы можете решить в любое время, – добавил он.
– Доктор Арчер подождет, а я тем временем повидаюсь с кузеном Луи.
– Время пришло, – сказал он, затем взял со стола еще одну книгу и пробежался по страницам. – Сейчас у нас десять тысяч человек, – пробормотал он. – Через двадцать восемь часов мы можем рассчитывать на сто тысяч человек, а через сорок восемь часов поднимется вся страна. Штат за штатом. А та часть страны, которая этого не сделает, я имею в виду Калифорнию и Северо-Запад, лучше бы никогда и не заселялась. Я даже не стану посылать им желтый знак.
Кровь бросилась мне в голову, но я ответил:
– Новая метла по-новому метет.
– Честолюбие Цезаря и Наполеона меркнет перед гордыней того, кто не успокоится, пока не овладеет умами людей и даже их нерожденными мыслями, – сказал мистер Уайльд.
– Вы говорите о Короле в желтом, – простонал я с содроганием.
– Он король, которому служили императоры.
– Я готов служить ему, – сказал я.
Мистер Уайльд сидел, потирая уши искалеченной рукой.
– Может быть, Констанс его и не любит, – предположил он.
Я открыл рот, чтобы ответить, но внезапные звуки военного оркестра с улицы заглушили мой голос. Двадцатый драгунский полк, ранее расквартированный на горе Сент-Винсент, возвращался с маневров в графстве Вестчестер в свои новые казармы на восточной стороне Вашингтон-сквер. Это был полк моего кузена. Лощеные драгуны в бледно-голубых облегающих мундирах с яркими киверами. Одетые в белые бриджи с двойным желтым лампасом, казалось, они были созданы для верховой езды. Каждый второй эскадрон был вооружен копьями, с металлических наконечников свисали белые и желтые вымпелы. Оркестр прошел, играя полковой марш, затем следовал командир полка со штабом. О мостовую стучали лошадиные копыта, головы животных раскачивались в унисон, развевались вымпелы на концах копий. Всадники ехали в прекрасных английских седлах, возвращаясь из своего бескровного похода по фермам Вестчестера. Музыка сабель, хлопающих по стременам, звон шпор и карабинов восхищали меня. Я видел Луи, который ехал со своим эскадроном. Он был самым красивым офицером из всех, кого я когда-либо видел. Господин Уайльд, который сидел на стуле у окна, тоже видел его, но ничего не сказал. Луи повернулся и взглянул прямо на лавку Хауберка, и его загорелые щеки покрылись румянцем. Я думаю, Констанс стояла у окна. Когда последние всадники проехали мимо и последние вымпелы исчезли с Пятой авеню, мистер Уайльд слез со стула и оттащил сундук от двери.
– Да, вам пришло время повидаться с кузеном Луи.
Он открыл дверь, я поднял шляпу и трость и вышел в коридор. На лестнице было темно. Спускаясь ощупью, я наступил на что-то мягкое. Оно зашипело и заурчало, я прицелился ударить кота, но рука задрожала, и трость разлетелась на куски, ударившись о перила, а зверь метнулся в комнату мистера Уайльда.
Проходя мимо двери Хауберка, я вновь увидел, как он трудится над доспехами, но не остановился. Выйдя на Бликер-стрит, прошел до Вустера, обогнул Палаты смертников и, пересекая Вашингтон-сквер, направился в свои апартаменты в «Бенедик». Здесь я с комфортом отобедал, прочел «Геральд» и «Метеор», а после этого подошел к стальному сейфу в своей спальне и установил таймер. Три минуты сорок пять секунд нужно ждать, пока комбинация цифр не сработает, – для меня это золотые минуты. С того момента, как я поворачивал рычаг, до того момента, как открывал стальную дверцу, я жил в экстатическом ожидании. Так должен чувствовать себя человек в раю. Я знаю, что в безопасности хранится в надежном сейфе. Эта вещь моя, и только моя. Изысканное блаженство предвкушения усиливается, когда он открывается, и я поднимаю с бархатной подушки корону из чистейшего золота, сверкающую бриллиантами. Я делаю это каждый день, и все же радость ожидания от прикосновения к короне только возрастает со временем. Это корона царя царей, императора императоров. Король в желтом, может быть, не стал бы ее носить, но она годится для его слуги.
Я держал корону в руках, пока не зазвенела сигнализация в сейфе, затем с нежной гордостью вернул ее назад и закрыл стальную дверцу. Медленно вернувшись в кабинет, окнами выходивший на Вашингтон-сквер, я приблизился к подоконнику и облокотился на него. Послеполуденное солнце слепило глаза, легкий ветер шевелил ветви вязов и кленов, тронутые зеленью только что раскрывшихся почек. Вокруг колокольни мемориальной церкви[5] кружила стая голубей, время от времени приземляясь на красную черепичную крышу или слетая к фонтану Лотоса перед мраморной аркой. Садовники ухаживали за клумбами вокруг фонтана, и свежевскопанная земля пряно и сладко благоухала. Газонокосилка, запряженная тучной белой лошадью, позвякивала, двигаясь по зеленому газону, вода из поливалок дождем брызгала на асфальт. Вокруг статуи Питера Стайвесанта[6], которая заменила в 1897 году чудовищный памятник Гарибальди, под весенним солнцем играли дети. Няньки катили затейливые детские коляски с безрассудным пренебрежением к малышам, что объяснялось присутствием здесь полудюжины молодцеватых драгун, млеющих на скамейках. Сквозь деревья на солнце сияла серебром вашингтонская мемориальная арка, а за ней с восточного края площади серели каменные драгунские казармы и виднелись артиллерийские конюшни, отделанные белым гранитом.
Я перевел взгляд на Палаты смертников в противоположном углу площади. Несколько любопытствующих все еще топтались у позолоченной железной ограды, но внутри двора тропинки были пустынны. Я полюбовался, как в той стороне сверкают и пульсируют водой фонтаны, их уже облюбовали воробьи – на поверхности бассейнов плавали серые перья. По лужайкам выступали два или три белых павлина, а на руке одной из «Судеб» неподвижно замер серовато-рябой голубь, как будто слившись со скульптурой.
Стоило мне отвернуться, как вдруг любопытствующие оживились, чем вновь привлекли мое внимание. По гравийной дорожке, ведущей к бронзовым дверям Палат смертников, пошатываясь, шел молодой человек. Он приостановился на мгновение у «Судеб», всматриваясь в их таинственные лица, и тут голубь поднялся со своего мраморного насеста, покружился и полетел на восток. Молодой человек прижал руку к лицу, а затем, словно решившись, взбежал по мраморным ступеням. Бронзовые двери закрылись за ним. Через полчаса зеваки разбрелись по домам, а вспугнутый голубь вернулся на свое место в руку «Судьбы».