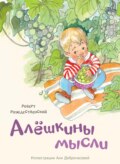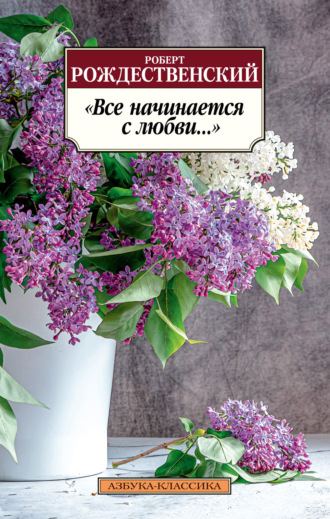
Роберт Рождественский
Все начинается с любви…
Утро
«Приходить к тебе…»
А. К.
Приходить к тебе,
чтоб снова
просто вслушиваться в голос
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить ни слова.
Приходить,
стучаться в двери,
замирая, ждать ответа…
Если ты узнаешь это,
то, наверно, не поверишь,
то, конечно, захохочешь,
скажешь:
«Это ж глупо очень…»
Скажешь:
«Тоже мне —
влюбленный!» —
и посмотришь удивленно,
и не усидишь на месте.
Будет смех звенеть рекою…
Ну и ладно.
Ну и смейся.
Я люблю тебя
такою.
Моя любовь
(Из поэмы)
Поэма началась в груди,
грудь разорвать грозя.
Теперь ее,
как ни крути,
не написать
нельзя.
Я ею бредил по ночам,
берег ее, как жизнь.
Я на руках ее качал
и повторял:
– Пишись!
Пишись! —
я требовал,
но мне
ответил ворох строк:
– Постой!
А был ли ты в огне?
Месил ли
пыль дорог?
Встречал ли ты в атаке смерть?
Привык ли ты дерзать?
И так ли знаешь жизнь,
чтоб сметь
о ней другим сказать?.. —
Сердце,
а что я знаю?
Ты подскажи мне тихо.
Знаю, что на Алтае
было село Косиха.
Было село —
я знаю —
крошечного значенья…
В речке вода парная
после грозы вечерней…
Сердце,
а что я помню?
Лес голубой стеною.
Помню – уходят кони
через село в ночное.
Помню еще я:
мама
на руки поднимала…
Сердце,
но это ж мало!
Это же очень мало!
Возле глухой ограды
чуть шелестит отава…
Сердце,
а может, правда,
я не имею права?
Пусть, затихая,
песня
будет на жизнь в обиде —
что расскажу я,
если
очень немного
видел.
Если мир перед глазами
был на диво мал…
Мы о нем узнали сами
и из сказок мам.
Нам о нем твердили в школе:
чуть ли не с шести
мы учили,
что такое
дальние пути,
что такое гнев и жалость,
что такое честь…
Мы учились.
Нам казалось:
это
жизнь и есть.
Мы учились,
а вглядеться —
окажусь я неучем,
потому что,
кроме детства,
и сказать-то не о чем.
Вновь иди,
слова ищи
за семью широтами…
Вышли в жизнь товарищи
слишком желторотыми.
Вышли в жизнь романтики,
ум
у книг занявшие,
кроме
математики,
сложностей не знавшие.
…Впервые взаправду дорога качала,
впервые мечты повели за собою,
впервые любовь
подсказала начало
поэмы,
которая стала судьбою.
Сквозные вокзалы
и запахи дыма,
гудков паровозных протяжная медь,
слова,
что я говорил любимой,
мне приказали
сметь.
«Слова бывают грустными…»
Слова бывают грустными,
слова бывают горькими.
Летят они по проводам
низинами,
пригорками.
В конвертах запечатанных
над шпалами стучат они,
над шпалами,
над кочками:
«Все кончено.
Все
кончено…»
Письмо домой
Мама, что ты знаешь о ней?
Ничего.
Только имя ее.
Только и всего.
Что ты знаешь,
заранее обвиня
ее в самых ужасных грехах земли?
Только сплетни,
которые в дом приползли,
на два месяца опередив меня.
Приползли.
Угол выбрали потемней.
Нашептали и стали, злорадствуя, ждать:
чем, мол, встретит сыночка
родная мать?
Как, мол, этот сыночек ответит ей?
Тихо шепчут они:
– Дыму нет без огня. —
Причитают:
– С такою семья – не семья. —
Подхихикивают…
Но послушай меня,
беспокойная мама моя.
Разве можешь ты мне сказать:
не пиши?
Разве можешь ты мне сказать:
не дыши?
Разве можешь ты мне сказать:
не живи?
Так зачем говоришь:
«Людей не смеши»,
говоришь:
«Придет еще время любви»?
Мама, милая!
Это все не пустяк!
И ломлюсь не в открытые двери я,
потому что знаю:
принято так
говорить своим сыновьям, —
говорить:
«Ты думай пока не о том», —
говорить:
«Подожди еще несколько лет,
настоящее самое будет потом…»
Что же, может, и так…
Ну а если – нет?
Ну а если,
решив переждать года,
сердцу я солгу и, себе на беду,
мимо самого светлого счастья пройду, —
что тогда?..
Я любовь такую искал,
чтоб —
всего сильней!
Я тебе никогда не лгал!
Ты ведь верила мне.
Я скрывать и теперь ничего не хочу.
Мама, слезы утри,
печали развей —
я за это жизнью своей заплачу.
Но поверь —
я очень прошу! —
поверь
в ту, которая в жизнь мою светом вошла,
стала воздухом мне,
позвала к перу,
в ту, что сердце так бережно в руки взяла,
как отцы новорожденных только берут.
Утро
Владимиру Соколову
Есть граница между ночью и утром,
между тьмою
и зыбким рассветом,
между призрачной тишью
и мудрым
ветром…
Вот осиновый лист трясется,
до прожилок за ночь промокнув.
Ждет,
когда появится солнце…
В доме стали заметней окна.
Спит,
раскинув улицы,
город,
все в нем —
от проводов антенных
до замков,
до афиш на стенах, —
все полно ожиданием:
скоро,
скоро!
скоро!! —
вы слышите? —
скоро
птицы грянут звонким обвалом,
растворятся,
сгинут туманы…
Темнота заползает
в подвалы,
в подворотни,
в пустые карманы,
наклоняется над часами,
смотрит выцветшими глазами
(ей уже не поможет это),
и она говорит голосами
тех,
кто не переносит
света.
Говорит спокойно вначале,
а потом клокоча от гнева:
– Люди!
Что ж это?
Ведь при мне вы
тоже кое-что
различали.
Шли,
с моею правдой не ссорясь,
хоть и медленно,
да осторожно…
Я темней становилась нарочно,
чтобы вас не мучила совесть,
чтобы вы не видели грязи,
чтобы вы себя
не корили…
Разве было плохо вам?
Разве
вы об этом тогда
говорили?
Разве вы тогда понимали
в беспокойных красках рассвета?
Вы за солнце
луну принимали.
Разве я
виновата в этом?
Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся в полнеба зари.
Замолчи!
Будет утро тебе отвечать.
Будет утро с тобой говорить.
Ты себя оставь
для своих льстецов,
а с такими советами к нам
не лезь —
человек погибает в конце концов,
если он скрывает
свою болезнь.
…Мы хотим оглядеться
и вспомнить теперь
тех,
кто песен своих не допел до утра…
Говоришь,
что грязь не видна при тебе?
Мы хотим ее видеть!
Ты слышишь?
Пора
знать,
в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,
чтобы руки скрутить им!
Чтоб шеи свернуть!
…Зазвенели будильники на столах.
А за ними
нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах
с клекотом гулким проснулась вода.
С добрым утром!
Ты спишь еще?
Встань скорей!
Ты сегодня веселое платье надень.
Встань!
Я птицам петь для тебя велю.
Начинается день.
Начинается
день!
Я люблю это время.
Я
жизнь люблю!
Без тебя
Алене
Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне
твой голос зазвучит…
В окно —
не то дождем,
не то крупой
с утра заладило.
И вот стучит, стучит…
Как ты необходима мне теперь!
Увидеть бы.
Запомнить все подряд…
За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу.
Но, наверно, – о тебе!..
Наверное,
я у тебя в долгу,
любовь, наверно, плохо берегу:
хочу услышать голос —
не могу!
Лицо пытаюсь вспомнить —
не могу!
…Давай увидимся с тобой хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там.
И все.
И я проснусь.
И легче станет мне…
Наверно, завтра
почта принесет
письмо твое.
А что мне делать с ним?
Ты слышишь?
Ты должна понять меня —
хоть авиа,
хоть самым скоростным,
а все равно пройдет четыре дня.
Четыре дня!
А что за эти дни
случилось —
разве в письмах я прочту?!
Как эхо от грозы, придут они…
Давай увидимся с тобой —
я очень жду —
хотя б во сне!
А то я не стерплю,
в ночь выбегу
без шапки,
без пальто…
Увидимся давай с тобой,
а то…
А то тебя сильней я полюблю.
«Я уехал…»
Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной
апрельской,
очень мокрой бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишечьих боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего…
Отправляясь в дальний путь
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем и без весны…
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она иль нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным…»
Но…
За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня
догнала весна
меня
и сказала:
«Грязь меси!»
Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.
Я уехал
от весны…
Я уехал
от тебя.
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,
от твоих горючих слез
самолет меня
унес.
Думал:
«Ладно!
Не впервой!
Покажу характер свой.
Хоть на время
убегу…
Я ведь сильный,
я —
смогу…»
Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была…
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто…
И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится…»
«Восемьдесят восемь»
Сочетание «88-С» по коду радистов означает «целую».
Понимаешь,
трудно говорить мне с тобой:
в целом городе у вас —
ни снежинки.
В белых фартучках
школьницы идут
гурьбой,
и цветы продаются на Дзержинке.
Там у вас – деревья в листве…
А у нас —
за версту,
наверное,
слышно, —
будто кожа новая.
Поскрипывает наст,
а в субботу будет кросс
лыжный…
Письма очень долго идут.
Не сердись.
Почту обвинять
не годится…
Рассказали мне:
жил один влюбленный радист
до войны на острове Диксон.
Рассказали мне:
был он
не слишком смел
и любви привык
сторониться.
А когда пришла она,
никак не умел
с девушкой-радисткой
объясниться…
Но однажды
в вихре приказов и смет,
график передачи ломая,
выбил он:
«ЦЕЛУЮ!»
И принял в ответ:
«Что передаешь?
Не понимаю…»
Предпоследним словом
себя обозвав,
парень объясненья не бросил.
Поцелуй
восьмерками зашифровав,
он отстукал:
«ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ!»
Разговор дальнейший
был полон огня:
«Милая,
пойми человека!
„Восемьдесят восемь!“
Как слышно меня?
„Восемьдесят восемь!“
Проверка».
Он выстукивал восьмерки
упорно и зло.
Днем и ночью.
В зиму и в осень.
Он выстукивал,
пока
в ответ не пришло:
«Понимаю,
восемьдесят восемь!..»
Я не знаю,
может,
все было не так.
Может —
более обыденно,
пресно…
Только верю твердо:
жил такой чудак!
Мне в другое верить
неинтересно…
Вот и я
молчание
не в силах терпеть!
И в холодную небесную просинь
сердцем
выстукиваю
тебе:
«Милая!
Восемьдесят восемь!..»
Слышишь?
Эту цифру я молнией шлю.
Мчать ей
через горы и реки…
Восемьдесят восемь!
Очень люблю.
Восемьдесят восемь!
Навеки.
Мираж
Дежурный закричал:
– Скорей сюда!
Мираж!
Смотрите!
Все сюда!
Скорей!.. —
И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей.
Я ждал всего.
Я был готов к любому:
к цветам и пальмам
в несколько рядов,
к журчащему прибою голубому,
к воздушным башням
древних городов.
Ведь я читал,
как над песком
бесстыдно
вставали
эти памятники лжи.
Ведь я читал,
как жителей пустыни
с дороги уводили
миражи…
Ведь я читал,
ведь я об этом знаю:
слепящим днем,
как в полной темноте,
шагали
люди,
солнце проклиная,
брели
к несуществующей воде.
Но здесь…
– Да где мираж?!
– А очень просто.
Туда смотри!..
Я замер,
поражен:
на горизонте
плавали
торосы
вторым,
не очень ясным этажом.
Они переливались
и дрожали…
Я был готов к любому.
Ждал всего…
Но Арктика!
Ты даже
миражами
обманывать
не хочешь никого.
Нелетная погода
Нет погоды над Диксоном.
Есть метель.
Ветер есть. И снег.
А погоды нет.
Нет погоды над Диксоном третий день.
Третий день подряд
мы встречаем рассвет
не в полете,
который нам по душе,
не у солнца,
слепящего яростно,
а в гостинице.
На втором этаже.
Надоевшей.
Осточертевшей уже.
Там, где койки стоят в два яруса.
Там, где тихий бортштурман Леша
снисходительно,
полулежа,
на гитаре играет,
глядя в окно,
вальс задумчивый
«Домино».
Там, где бродят летчики по этажу,
там, где я тебе это письмо пишу,
там, где без рассуждений
почти с утра —
за три дня,
наверно, в десятый раз —
начинается «северная» игра —
преферанс.
Там, где дни друг на друга похожи,
там, где нам
ни о чем не спорится…
Ждем погоды мы.
Ждем в прихожей
Северного полюса.
Третий день
погоды над Диксоном нет.
Третий день.
А кажется:
двадцать лет!
Будто нам эта жизнь двадцать лет под стать,
двадцать лет, как забыли мы слово:
летать!
И обидно.
И некого вроде винить.
Телефон в коридоре опять звонит.
Вновь синоптики,
самым святым клянясь,
обещают на завтра
вылет
для нас.
И опять, как в насмешку,
приходит с утра
завтра,
слишком похожее
на вчера.
Улететь —
дело очень нелегкое,
потому что погода —
нелетная.
…Самолеты охране поручены.
Самолеты к земле прикручены,
будто очень опасные
звери они,
будто вышли уже
из доверья они,
Будто могут
плюнуть они на людей —
на пилотов,
механиков
и радистов.
И туда, где солнце.
Сквозь тучи.
Над Диксоном
третий день погоды нет.
Третий день.
Рисковать приказами запрещено.
Тихий штурман Леша
глядит в окно.
Тихий штурман
наигрывает «Домино».
Улететь нельзя все равно
ни намеренно,
ни случайно,
ни начальникам,
ни отчаянным —
никому.
Ровесникам
Артуру Макарову
Знаешь, друг,
мы, наверно, с рожденья
такие…
Сто разлук нам пророчили
скорую гибель.
Сто смертей
усмехались беззубыми ртами.
Наши мамы
вестей
месяцами от нас ожидали…
Мы росли —
поколение
рвущихся плавать.
Мы пришли
в этот мир,
чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и, в открытое море бросаясь,
песни петь,
целовать неприступных красавиц!
Мы пришли
быть,
где необходимо и трудно…
От земли
города поднимаются круто.
Век
суров.
Почерневшие реки
дымятся.
Свет костров
лег на жесткие щеки
румянцем…
Как всегда,
полночь смотрит
немыми глазами.
Поезда
отправляются по расписанью.
Мы ложимся спать.
Кров родительский
сдержанно хвалим…
Но
опять
уезжаем,
летим,
отплываем!
Двадцать раз за окном
зори
алое знамя подымут…
Знаю я:
мы однажды уйдем
к тем,
которые сраму
не имут.
Ничего
не сказав.
Не успев попрощаться.
Что
с того?
Все равно: это —
слышишь ты? —
счастье:
сеять хлеб
и смеяться
в ружейные дула…
Жить взахлеб!
Это здорово кто-то придумал!
Часы
– Идут часы…
– Подумаешь,
открытье!
Исправны, значит…
Приобрел —
носи…
– Я не о том!
На улицу смотрите:
по утренней земле
идут часы!
Неслышные, торопятся минуты,
идут часы,
стучат ко мне в окно.
Идут часы,
и с ними разминуться,
не встретить их
живущим не дано…
Часы недлинной жизни человека,
увидите —
я вас перехитрю!
Я в дом вбегу.
Я дверь закрою крепко.
Теперь стучите —
я не отворю!..
Зароешься,
закроешься,
не впустишь,
свои часы дареные испортишь,
забудешь время
и друзей забудешь,
и замолчишь,
и ни о чем не вспомнишь.
Гордясь уютной тишиной квартиры
и собственною хитростью
лучась,
скорее
двери забаррикадируй!..
Но час
придет!
Неотвратимый час.
Наступит он в любое время года
на мысли,
на ленивые мечты.
Наступит час
на сердце и на горло…
И, в страхе за себя,
очнешься ты!..
И разобьет окошко
мокрый ветер.
И хлынут листья
в капельках росы…
Услышишь:
бьют часы!
И вслед за этим
почувствуешь:
наотмашь
бьют
часы!
Необитаемые острова
Снятся усталым спортсменам рекорды.
Снятся суровым поэтам слова.
Снятся влюбленным
в огромном городе
необитаемые
острова.
Самые дальние,
самые тайные,
ветру открытые с трех сторон,
необнаруженные,
необитаемые,
принадлежащие тем,
кто влюблен.
Даже отличник
очень старательный
их не запомнит со школьной скамьи, —
ведь у влюбленных
своя география!
Ведь у влюбленных
карты
свои!
Пусть для неверящих
это в новинку —
только любовь
предъявила
права.
Верьте:
не сказка,
верьте:
не выдумка —
необитаемые острова!..
Все здесь простое,
все самое первое —
ровная,
медленная река,
тонкие-тонкие,
белые-белые,
длинные-длинные
облака.
Ветры,
которым под небом не тесно,
птицы,
поющие нараспев,
море,
бессонное,
словно сердце,
горы,
уверенные в себе.
Здесь водопады
литые,
летящие,
мягкая,
трепетная трава…
Только для любящих
по-настоящему
эти
великие острова!..
Двое на острове.
Двое на острове.
Двое – и все!..
А над ними —
гроза.
Двое – и небо тысячеверстное.
Двое – и вечность!
И звезды в глаза.
Это не просто.
Это не просто.
Это сложнее любого
в сто крат…
В городе стихшем
на перекрестках
желтым огнем светофоры горят.
Меркнет
оранжевый отблеск неона.
Гаснут рекламы,
гуденье прервав…
Тушатся окна,
тушатся окна
в необитаемых
островах.
В сорок третьем
Везет
на фронт
мальчика
товарищ военный врач…
Мама моя,
мамочка,
не гладь меня,
не плачь!
На мне военная форма, —
не гладь меня при других!
На мне военная форма,
на мне
твои сапоги.
Не плачь!
Мне почти двенадцать,
я взрослый
почти…
Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути…
В кармане моем документы, —
печать войсковая строга.
В кармане моем документы,
по которым
я – сын полка.
Прославленного,
гвардейского,
проверенного в огне…
Я еду на фронт.
Я надеюсь,
что браунинг выдадут мне.
Что я в атаке
не струшу,
что время мое пришло.
Завидев меня,
старухи
охают тяжело:
«Сыночек…
Солдатик маленький…
Вот ведь
настали дни…»
Мама моя,
мамочка!
Скорей им все объясни!
Скажи,
чего это ради
они надо мной ревут?
Зачем
они меня гладят?
Зачем сыночком
зовут?
И что-то шепчут невнятно,
и темный суют калач…
Россия моя,
не надо!
Не гладь меня!
И не плачь!
Не гладь меня!
Я просто
будущий сын полка.
И никакого геройства
я не совершил
пока!
И даже тебе не ясно,
что у меня впереди…
Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути…
Поезд идет размеренно,
раскачиваясь нелепо, —
длинный
и очень медленный,
как очередь
за хлебом…
Игра в «Замри!»
Ю. Овсянникову
Игра в «Замри!» —
веселая игра…
Ребята с запыленного двора,
вы помните —
с утра и до зари
звенело во дворе:
«Замри!..»
«Замри!..»
Порой из дома выйдешь, на беду, —
«Замри!» —
и застываешь на бегу
в нелепой позе
посреди двора…
Игра в «Замри!» —
далекая игра,
зачем ты снова стала мне нужна?
Вдали от детства
посреди земли
попробовала женщина одна
сказать мне позабытое:
«Замри!»
Она сказала:
будь неумолим.
Замри!
И ничего не говори.
Замри! —
она сказала. —
Будь
моим!
Моим – и все!
А для других —
замри!
Замри для обжигающей зари,
Замри для совести.
Для смелости замри.
Замри,
не горячась и не скорбя.
Замри!
Я буду миром
для тебя!..
На нас глядели звездные миры.
И ветер трогал жесткую траву…
А я не вспомнил
правила игры.
А я ушел.
Не замер.
Так живу.
Богини
Давай покинем этот дом,
давай покинем, —
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,
к своим уютным богиням,
к своим ворчащим…
Они, наверно, ждут нас?
Ждут.
Как ты думаешь?
Заварен чай,
крепкий чай.
Не чай – а деготь!
Горят цветные светляки на низких тумбочках,
от проносящихся машин
дрожат стекла…
Давай пойдем, дружище!
Из-за стола встанем.
Пойдем к богиням,
к нашим судьям бессонным.
Где нам обоим
приговор уже составлен.
По меньшей мере мы приговорены —
к ссоре…
Богини сидят,
в немую тьму глаза тараща.
И в то,
что живы мы с тобою,
верят слабо…
Они ревнивы так,
что это даже страшно.
Так подозрительны,
что это очень странно.
Они придумывают разные разности,
они нас любят горячо и неудобно.
Они всегда считают
самой высшей радостью
те дни, когда мы дома.
Просто дома…
Москва ночная спит
и дышит глубоко.
Москва ночная
до зари ни с кем не спорит…
Идут к богиням
два не очень трезвых
бога.
Желают боги одного:
быть собою.
«Будь, пожалуйста, послабее…»
Будь, пожалуйста, послабее.
Будь, пожалуйста.
И тогда подарю тебе я
чудо
запросто.
И тогда я вымахну-вырасту,
стану особенным.
Из горящего дома вынесу
тебя,
сонную.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное, —
в море брошусь,
густое,
зловещее, —
и спасу тебя!..
Это будет
сердцем велено мне,
сердцем велено…
Но ведь ты же
сильнее меня,
сильней
и уверенней!
Ты сама готова пасти других
от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги,
ни огня хрустящего.
Не заблудишься,
не утонешь,
зла не накопишь.
Не заплачешь
и не застонешь,
если захочешь.
Станешь плавной
и станешь ветреной,
если захочешь.
Мне с тобою —
такой уверенной —
трудно
очень.
Хоть нарочно,
хоть на мгновенье, —
я прошу,
робея:
помоги мне в себя поверить!
Стань
слабее.