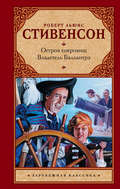Роберт Льюис Стивенсон
Ночлег
Вильон был чувствительно уязвлен этой проповедью.
– Вы думаете, во мне нет чувства чести! – вскричал он. – Я действительно беден, как известно Богу. Тяжело видеть богатых людей в перчатках, а самому согревать свои руки дыханием изо рта. Пустое брюхо – ужасная вещь, а вы говорите об этом так легко. Если бы у вас было так мало всего, как у меня, вы иначе бы запели. Во всяком случае, я вор – думайте об этом как вам угодно, – но ведь я не дьявол, явившийся из ада, да поразит меня Бог, если я лгу! Я бы хотел, чтобы вы знали, что и у меня есть своя честь, такая же хорошая как и ваша, хотя я и не болтаю об этом так, будто это какое-то чудо – иметь честь. Мне представляется совершенно естественным иметь ее; она всегда внутри меня, и я пользуюсь ею, когда требуется. Подумайте, сколько времени провел я с вами в этой комнате? Разве вы не говорили, что вы один в доме? Взгляните на свои золотые блюда. Вы, пожалуй, человек сильный, но вы стары и безоружны, а у меня есть нож. Мне бы достаточно было сделать один удар и вы лежали бы с холодной сталью в кишках, а я бы ушел на улицу с кучей золотых вещей. Не думаете ли вы, что у меня не хватает ума видеть это? А я пренебрег этим. Ваши проклятые кубки в такой же безопасности, как в церкви, и сердце ваше бьется так же ровно, как всегда. А я сейчас выйду отсюда таким же бедняком, каким пришел, с единственным грошом, которым вы мне колете глаза. А вы думаете, что у меня нет чувства чести, – да поразит меня Бог!
Старик протянул правую руку.
– Я скажу вам, кто вы такой, – произнес он, – вы негодяй, мой милый: безрассудный, жестокосердный негодяй и бродяга. Я провел с вами час. О, поверьте, я чувствую себя опозоренным. А вы ели и пили за моим столом. Я уже устал от вашего пребывания. День наступает, и ночные птицы должны садиться на свой насест. Хотите идти впереди или сзади?
– Как вам угодно, – отвечал поэт, вставая. – Я верю в вашу суровую честность. – Он с задумчивым видом осушил свой кубок. – Я хочу добавить, что вы были очень умны, – сказал он, постукивая пальцами по лбу, – но годы, годы! Ум одеревенел и ревматизмы…
Старик пошел впереди него с гордым видом. Вильон следовал за ним, насвистывая, засунув руки за пояс.
– Да помилует вас Бог, – сказал сеньор у двери.
– Прощайте, папаша, – отвечал поэт, зевая, – большое спасибо за холодную баранину и вино!
Дверь заперлась за ним. Брезжил рассвет над белыми крышами домов. Морозным, неприветливым утром начинался день. Вильон постоял и смело вышел на середину улицы.
– Старый дурак! – подумал он. – Да и кубки-то его вряд ли особенно дорогие.