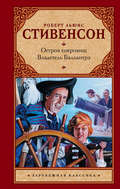Роберт Льюис Стивенсон
Путешествие внутрь страны
Глава XIX
В Компьене
Мы поместились в большом шумном отеле, в котором никто не обратил на нас внимания.
В городе царили запасные войска и вообще милитаризм (как выражаются немцы). Лагерь из конических белых палаток, расположенный вне Компьена, напоминал листок из иллюстрированной Библии. Пояса с тесаками украшали стены кафе, на улицах целый день звучала военная музыка. Англичанин не мог в эти минуты не гордиться своей родиной, потому что люди, следовавшие за барабаном, были все малы ростом и шли нестройно. Каждый из них наклонялся под тем углом, как ему нравилось, и качался, как ему вздумается. В их рядах не замечалось той превосходной выправки, с которой торжественно и непреоборимо двигается полк высоких шотландцев за своей музыкой, походя на явление природы. Кто видевший раз наши полки, может забыть тамбур-мажора, тигровые шкуры барабанщиков, трубачей в свитых пледах, эластичный ритм целого полка, идущего в ногу, удары барабана и пронзительные звуки дудок, играющих воинственный марш, когда замолкают медные трубы?
Девушка-англичанка, учившаяся во французской школе, однажды начала описывать своим подругам-француженкам один из наших полков, и (как она сказала мне) воспоминание сделалось в ней необычайно живо, она почувствовала гордость при мысли, что она соотечественница этих солдат, и горесть о разлуке со своей страной; ее голос прервался, и она залилась слезами. Я не мог забыть этой девушки и думаю, что она почти достойна монумента. Назвать ее молодой леди, со всеми связанными с этим названием последствиями, было бы для нее оскорблением. Пусть она помнит одно: может быть, ей не суждено сделаться женой героя-генерала или увидеть великий немедленный результат своей жизни, но она проживет не напрасно для своей родной страны.
Хотя французские солдаты и показываются во время парада с невыгодной стороны, но в походе они веселы, проворны и воодушевлены, как толпа охотников на лисиц. Я помню, как однажды видел отряд, проходивший через лес Фонтенбло по дороге в Шальи, между Bas Bréau и Reine Blanche. Один малый шел впереди других и пел громкую мужественную походную песнь. Все остальные шагали в такт и даже в такт вскидывали ружья. Молодой офицер на лошади с трудом сдерживал свое волнение. Школьники не охотнее играют в зайца и собак. Вам показалось бы, что такие увлеченные ходьбой люди неутомимы.
В Компьене я больше всего наслаждался городским рынком. Я просто бредил рынком. Он памятник готического причудливого вкуса, весь в башенках, колонках, в желобках и всевозможных архитектурных фантазиях. Некоторые из ниш позолочены и украшены живописью. На большом четырехугольном панно, на позолоченном фоне, выдаваясь черным рельефом, едет Людовик XII на идущей шагом лошади; он опирается рукой в бок и закидывает голову. В каждой его черте – царственная надменность; нога в стремени презрительно выставляется из-за рамы, взгляд тверд и горд; самая лошадь короля, по-видимому, с наслаждением идет над распростертыми рабами, и ее ноздри надуваются точно для того, чтобы издать трубный звук. Таким-то образом на фронтоне городского рынка вечно едет добрый король Людовик XII, отец своего народа.
Над головой короля в высокой центральной башенке виднеется циферблат часов, а высоко над ним три механические фигурки, каждая с молотком в руках; они отбивают часы, половины и четверти. У центральной фигурки позолоченный нагрудник, у двух других позолоченные панталоны, у всех трех изящные шляпы с перьями, как у рыцарей. Когда подходит четверть, человечки поворачивают головы и многозначительно переглядываются, потом три молотка падают на маленькие колокольчики внизу. Часовой бой раздается звучно и густо из внутренней башни; позолоченные джентльмены с удовольствием отдыхают от трудов.
Я с громадным удовольствием смотрел на движения рыцарей и старался не пропускать их манипуляций. Хотя Сигаретка и выказывал презрение к моему энтузиазму, но я видел, что он сам увлекался до известной степени позолоченными человечками. Нелепо выставлять такие игрушки на крышах, подвергая их зимней непогоде. Они лучше сохранялись бы в стеклянном ящике перед нюрнбергскими часами. Не дерзко ли ночью, когда дети в постелях и даже взрослые храпят под стегаными одеялами, оставлять эти фигурки, позволяя им звонить для звезд и плавающей луны. Башенки еще могут поднимать свои змеиные головы, может и властительница их стоять, как центурион старой немецкой картинки, изображающей Via Dolorosa, но игрушки следует прятать в ящики с ватой до восхода солнца, когда дети снова выходят на улицу.
На почте нас ждало много писем, и на этот раз власти были так вежливы, что передали их нам сейчас же по простой просьбе.
В некотором смысле можно сказать, что наше путешествие окончилось с этим пакетом писем. Чары разрушились. Мы отчасти вернулись домой. Во время путешествия не следует вести переписки, уж и писать-то неприятно, а получение писем – смерть радостного чувства.
Я ухожу от моей страны и от себя. Я желаю на некоторое время погрузиться в новые условия жизни, как в новую стихию. На некоторое время я отказываюсь от моих друзей и привязанностей. Уезжая, я оставляю сердце дома в ящике стола или отправляю его вперед с моим багажом, желая, чтобы оно ждало меня в назначенном месте. Когда я окончу путешествие, то не премину прочитать ваши прелестные письма с надлежащим вниманием. Но, видите ли, я истратил столько денег и столько раз ударил веслом по воде единственно ради желания быть в чужой стране; вы же вашими известиями переносите меня домой. Вы натягиваете шнурок, и я чувствую, что я птица на привязи. Вы во всей Европе преследуете меня мелкими неприятностями, а я и уехал-то, чтобы их избежать. Война жизни, я знаю, не прекращается, но неужели я не могу получить хотя бы недельного отпуска?
В день нашего отплытия мы встали в шесть часов. На нас в отеле обращали так мало внимания, что я думал, что вряд ли нам соблаговолят представить счет. Но счет подали и даже очень вежливо, и мы самым цивилизованным образом заплатили все бескорыстному клерку и ушли из гостиницы. Никто не обратил внимания на наши резиновые мешки. Никому не было дела до нас. Невозможно встать раньше деревни, но Компьен такой большой город, что он не любит беспокоиться утром, и мы уже отплыли, когда он все еще был в халате и туфлях. На улицах виднелись только люди, мывшие ступени подъездов. Никто еще не был одет, кроме рыцарей на городском рынке; все они омылись росой, щеголяли в своей позолоте, казались полны разума и чувства профессиональной ответственности. Когда мы проходили мимо них, их молотки пробили половину седьмого. Я нашел, что они поступили мило, проводив меня этим приветствием; еще никогда не звонили позолоченные человечки лучше, даже в воскресный полдень.
Никто не смотрел, как мы отплывали, кроме ранних прачек (ранних и поздних), которые уже колотили белье в своей плавучей прачечной на реке. Они были очень веселы и свежи, храбро погружали руки в воду и, по-видимому, не чувствовали холода. Такое неприятное раннее начало неприятного дневного труда привело бы меня в ужас. Но мне кажется, что прачки так же неохотно стали бы на наше место, как мы на их. Они столпились у дверей прачечной, чтобы видеть, как мы умчимся в легкий солнечный туман над рекой, и кричали нам, пока мы не скрылись под мостом.
Глава XX
Переменившиеся времена
В известном смысле этот туман так и не рассеялся. С этого дня он густой пеленой лежит в моей записной книжке. Пока Уаза была маленькой сельской рекой, она подносила нас близко к дверям домов, и мы могли разговаривать с поселянами в полях. Но теперь, когда она сделалась широка, жизнь, текущая на берегах, была вдали от нас. Такая же разница существует между большим шоссе и деревенской проселочной дорожкой, которая вьется между садами коттеджей. Теперь мы ночевали в городах, где никто не смущал нас расспросами. Мы вступили в цивилизованную жизнь, среди которой люди встречаются, не кланяясь друг другу. В малонаселенных местностях мы извлекаем всю пользу, какую только можем, из каждой встречи, в городе же держимся в стороне и заговариваем с посторонним, только наступив кому-нибудь на ногу. Мы перестали быть птицами залетными и никто не предполагал, чтобы мы явились не из соседнего города или не откуда-либо еще ближе. Например, я помню, как мы пришли к «Острову Адама» и встретили целые дюжины прогулочных лодок, высыпавших на воду под вечер; между настоящим путешественником и любителем не было ни малейшей разницы, разве только та, что мой парус был очень грязен. Общество одной из лодок приняло меня за соседа. Ну, могло ли случиться что-нибудь более обидное? Вся романтическая сторона путешествия исчезла в эту минуту. В верховьях Уазы, где воду оживляли только рыбы, появление двух гребцов на байдарках не могло объясняться таким вульгарным образом; мы были странными и живописными путниками. Из удивления крестьян рождалась легкая и мимолетная интимность. В жизни идет непрестанный обмен, хотя это иногда трудно проследить, потому что десятки людей старше нас, а и до сих пор с начала времени счеты не были сведены. Вы получаете пропорционально тому, что даете. Пока мы были странными путешественниками, предметами удивления, за которыми люди бегают, как за площадными шарлатанами, у нас также не было недостатка в развлечениях. Но едва мы унизились до того, что стали общим местом, как получилась скука для обеих сторон. В этом-то и заключается одна причина из дюжины, почему свет скучен для скучных людей.
Во время наших прежних приключений у нас всегда было какое-нибудь дело, и это оживляло нас. Даже порывы дождя имели на нас оживляющее влияние и выводили наши умы из оцепенелого состояния. Но теперь, когда река не текла в настоящем смысле этого слова, а только скользила по направлению к морю, ровно и одинаково, но незаметно, теперь, когда небо неизменно улыбалось нам изо дня в день, мы стали погружаться в золотую дремоту ума, которая нередко наступает после большого движения на открытом воздухе. Я не раз приходил в оцепенение; я очень люблю это ощущение, но никогда не испытывал его в такой степени, как на Уазе. Это было апофеозом отупения.
Мы совершенно перестали читать. Иногда, когда я находил новую газету, я с особенным удовольствием пробегал отдельный эпизод печатавшегося в ней романа, но не мог выносить более чем трех отрывков подряд; даже второй уже приводил меня в отчаяние. Едва рассказ делался хотя бы до известной степени последовательным, он терял для меня всякую цену; только отдельная сцена или, как это бывает в фельетонах, полусцена, без предшествовавшего и последующего событий, имела силу занять меня как греза. Чем менее знал я из романа, тем более нравился он мне. Он составлял тему моих дум. Большую же часть времени, как я уже сказал, ни один из нас не читал, и мы употребляли весь тот небольшой промежуток времени, в который бодрствовали, то есть часы между сном и обедом, на рассматривание географических карт. Я всегда очень любил карты и могу путешествовать в атласе с большим наслаждением. Названия городов необычайно заманчивы; контуры берегов и линии рек чаруют глаз; когда видишь в действительности то место, которое раньше знал по карте, это производит сильное впечатление. Но вечерами, о которых я говорю теперь, мы водили пальцами по картам с тупой небрежностью. Мы нисколько не увлекались тем или другим местом. Мы смотрели на карту, как дети прислушиваются к своей болтовне, и читали названия городов и деревень, сейчас же опять забывая их. В нас не было никакого воодушевления, невозможно было бы найти двух более спокойных, равнодушных людей. Если бы вы взяли от нас карту в минуту, когда мы особенно внимательно изучали ее, могу держать пари, что мы продолжали бы с таким же наслаждением смотреть на пустой стол.
Одна вещь увлекала нас – еда. Мне кажется, я обоготворил свою утробу. Я помню, как в воображении останавливался на том или другом кушаньи, мечтая о нем до того, что у меня начинали течь слюни. Задолго до остановки мой аппетит превращался в настойчивое неотвязное мучение. Иногда мы ставили наши байдарки рядом и на ходу обменивались гастрономическими мечтами. В течение многих миль в моей голове проносилась мечта о торте с хересом; это произведение английское, но, конечно, могло достигнуть и Уазы. Однажды, когда мы подходили к Вербери, Сигаретка заставил мое сердце подняться к моим губам, заговорив о паштете из устриц и о сотерне.
Я полагаю, никто из нас не признает той большой роли, которую в нашей жизни играют еда и питье. Аппетит до того повелевает нами, что мы можем переваривать самое простое мясо и с благодарностью заменять обед хлебом и водой; точно также есть люди, которым необходимо что-нибудь, хотя бы гид Бредшоу. Но и в еде есть романтическая сторона. Вероятно, столом увлекается большее число людей, нежели любовью, и я уверен, что еда гораздо занимательнее, нежели театр. Думаете ли вы, как сказал бы Уольт Уитман, что вы менее бессмертны от этого? Истинный материалист тот, кто стыдится себя. Способность чувствовать запах в прованском масле не меньшая принадлежность человеческого совершенства, нежели способность видеть красоту красок заката.
Теперь мы продвигались без труда и без забот. Погружать весло то справа, то слева под надлежащим углом, смотреть вдоль реки, спускать маленькие пруды, которые собирались на закрытом носу байдарки, прищуриваться, чтобы защитить глаза против блеска искр солнца на воде, проходить под свистящим бечевым канатом баржи «Deo Gratias» или «Четыре Сына», все это не требовало особенного искусства. Известные мускулы работали в состоянии между сном и бдением, а в то же время мозг отдавался наслаждению отдыха и засыпал. Взглядом мы охватывали все самые крупные принадлежности картины и, полузакрыв глаза, смотрели на рыбаков в блузах и полоскавшихся в воде прачек. Временами мы просыпались наполовину при виде колокольни, церкви, выскочившей из воды рыбы или обмотавшейся вокруг весла гирлянды речной травы, которую нужно было снять и бросить в воду. Но такие светлые мгновения бывали светлы только наполовину. Часть нашего существа призывалась к деятельности, но не все существо. Центральное бюро нервов, которое мы в некотором роде называем своей личностью, пребывало в спокойствии, точно министерство правительства. Большие колеса сознания лениво вращались в голове, как крылья мельницы, не моловшей муки. Иногда я в течение получаса считал удары моего весла и забывал сотни. Льщу себя мыслью, что животные не могут превзойти такого низкого уровня сознания. А как это было приятно! Какое терпимое настроение приносила с собой полудремота! Ничто не может сравниться с упоением человека, достигшего единственного апофеоза возможного для него – апофеоза тупости; кажется, будто он делается долголетним и почтенным, как дерево.
Глубину моего усыпления (я не могу сказать интенсивность его) сопровождало странное метафизическое явление. Помимо воли меня занимало то, что философы называют «я» и «не я», «ego» и «non ego». Во мне было менее «меня» и более «не меня», чем обыкновенно. Я смотрел, как кто-то другой работал веслом; замечал, что чья-то, а не моя нога опиралась на подножку. Мое собственное тело, казалось, имело ко мне не больше отношения, нежели байдарка или река, или берега реки. Не одно это; что-то в моем уме, независимо от моего мозга, какая-то область моего собственного существа сбросила с себя подчинение и освободилась или же освободила кого-то, работавшего веслом. Я сжался, превратился в крошечное существо в уголке себя самого. Я уединился в своей собственной оболочке. Мысли являлись самовольно; это были не мои мысли, и я смотрел на них, как на часть пейзажа. Словом, полагаю, что я был настолько близок к нирване, насколько это возможно в практической жизни; и если я не ошибаюсь, то от души поздравляю буддистов. Это приятное состояние, не особенно совместимое с блеском ума, не особенно выгодное в смысле приобретения денег, но очень спокойное, восхитительное, удаляющее человека от любопытства и от тревоги. Изобразить подобное состояние можно, представив себе человека мертвецки напившегося, но вместе с тем трезво наслаждающегося своим опьянением. Я думаю, что землепашцы, работающие на полях, проводят большую часть своих дней в этом восторженном оцепенении, которое и служит объяснением их спокойствия и выносливости. Ну не грустно ли тратиться на опиум, когда можно получить даром еще лучший рай?
Такое состояние ума было самым великим подвигом нашего путешествия. Оно составляло дальнейший пункт, которого мы достигли. Действительно, этот пункт так удален от избитых тропинок, что я не надеюсь возбудить симпатию читателя к моему улыбающемуся кроткому идиотству. Мои идеи порхали, как пыль в солнечном луче; деревья, шпили церквей на берегах время от времени вырисовывались передо мной точно единственные твердые предметы среди клубящихся облаков, а ритмическое движение лодки и весла в воде превращалось в колыбельную песню, которая укачивала меня; кусок грязи на носу байдарки представлял собой что-то невыносимое, порой же, как мой спокойный товарищ, делался предметом моего внимания. Все время, пока река бежала, оба берега изменялись, я считал удары веслом, забывая сотни, и представлял собой самое счастливое животное во Франции.