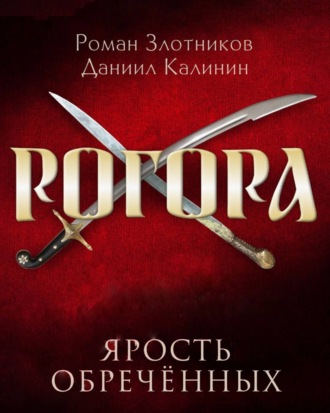
Роман Злотников
Рогора. Ярость обреченных
Пролог
В просторном торхском шатре, освещенном мерцающим пламенем доброго десятка факелов, буквально яблоку негде упасть. Там, где с удобством могло расположиться едва ли два десятка человек, набилось с полсотни – и вязкая, липкая духота плотным коконом обвила присутствующих. Но едва ли кто из них обращает на это внимание, ибо в воздухе повисло столь жуткое напряжение, что, кажется, оно стало осязаемо. Только протяни руку – и сразу заденешь словно до упора натянутую тетиву. Вопрос лишь в том, в кого полетит спущенная с нее стрела взаимной ненависти…
– Доказательства! Чем докажете свои слова?!
Визгливые, злобные выкрики лехских шляхтичей перебил сколь спокойный, столь же и холодный голос высокого, немолодого блондина с испещренным мелкими шрамами лицом и тяжелым взглядом льдистых голубых глаз, разом оборвавший повисший в шатре раздраженный гомон:
– Не будем превращать военный совет в базарную склоку, паны. Мы не на обсуждениях сейма, и перехваченные нами степняки-торхи косвенно подтвердили слова наших… вероятных союзников. Кочевники бегут от большой армии, наступающей с юга. И все же согласитесь… пан Аджей: внезапное вступление в наше противостояние третьей стороны как нельзя более своевременно. Для вас.
Еще довольно молодой мужчина с вызовом встретил давящий взгляд герцога, вперив в него не менее тяжелый взгляд серо-зеленых, чуть навыкате глаз.
– Хочешь проверить правдивость моих слов, Бергарский? Так отправь в степь своих дозорных! А еще лучше – продолжи осаду! Я с удовольствием посмотрю, как горстку лехских псов разметает по округе армия султаната[1]!
Дерзкий ответ Аджея Руга, с недавних пор принявшего имя рода Корг, заставил половину присутствующих схватиться за сабли и угрожающе зароптать.
– Довольно, Аджей! Если ени чиры[2] и истребят воинов Республики, то, поверь, ни тебе, ни твоим людям за стенами Барса не отсидеться. По отдельности – и нас и вас – ждет только бесславная смерть. И мы собрались здесь, – мужчина с усталым, мужественным лицом и ранней сединой на висках возвысил сильный, чистый голос, – не бросаться взаимными оскорблениями и угрозами, а решать, что делать дальше! С пониманием того, что друг без друга мы, все здесь присутствующие, погибнем в ближайшую седмицу!
– Видимо, великий князь забыл, – взявший слово шляхтич в роскошной накидке из шкуры пардуса язвительно выделил титул собеседника интонацией, – что Рогора подняла бунт и отказалась признать королевскую власть? Так почему же мы должны искать драки с султанатом? Нет, мы уйдем, а вы тут… кхм…
Вельможный пан оборвал свою речь, прежде чем с яростью стиснувший зубы Аджей разразился бы гневной отповедью. Его предупредил герцог, чьи горящие бешенством глаза заставили шляхтича подавиться остатками фразы:
– Если вы забыли, пан Заруба, великий князь Торог Корг принес присягу королю Якубу, и нынче эта земля, – Бергарский бросил выразительный взгляд под ноги шляхтичу, – является такой же частью Республики, как и ваше поместье. Осталось лишь уточнить, – еще один красноречивый взгляд, брошенный теперь на Аджея Корга, – все ли присутствующие согласны с подобной трактовкой? Да, и к слову: я отправил разведчиков в степь, как только получил информацию от торхов. Но, пока они не вернулись, я не могу позволить себе поверить на слово вам, да и беглецам-степнякам.
Лидер мятежников с презрительной ухмылкой откинулся на спинку стула:
– Признать себя вассалом Якуба?! С чего бы вдруг? Вы напали на наши земли, вероломно захватили Волчьи Врата, перебив спящий гарнизон, вы привели на наши земли бесчинствующих торхов и наемников фрязей, вы обманом захватили нашего короля – моего названого отца и тестя, а теперь требуете признать вашу власть?! И ради чего?! Чтобы сброд трусливых шакалов под вашим началом, господин герцог, разбежался при первой же атаке ени чиры и сипахов[3]? Оставив нас погибать в гордом одиночестве?! Да не бывать этому!!!
– Довольно!!! – яростно взревел Торог, оборвав и обличительную речь зятя, и зарождающиеся вопли возмущения лехов. А лицо великого князя исказила такая жуткая ненависть, что даже Бергарский счел за лучшее промолчать – хотя ему было что ответить Аджею.
– Довольно, – уже более спокойно промолвил Торог. – Ты, мой названый брат, забыл, что тебе требуется признать мою власть. Законную по праву рождения и наследования! Да, отец официально признал тебя наследником – но не единственным, а лишь вторым, в очереди за мной! Так подчинись!
Вперив в зятя гневный взгляд, Торог продолжил:
– Сейчас ты видишь перед собой врага – но не хочешь понимать, что без помощи гетмана юга твои шансы ничтожны. Да их просто нет! Ты обвиняешь присутствующих здесь панов в трусости, но не понимаешь, что у них, – князь вновь возвысил голос, чуть обернувшись назад, и взмахнул рукой в сторону столпившейся шляхты, – нет выбора! Они будут драться здесь и сейчас, они будут биться из последних сил, не щадя собственной жизни! Если, конечно, не хотят, чтобы султанат завоевал всю Республику. Ведь среди благородных шляхтичей, – лицо Торога исказила чуть презрительная улыбка, – нет необразованных людей. И все они знают о Заурском султанате. Знают, что держава мамлеков ведет жаркие войны по всей границе, знают, что султанат есть хищник, живущий лишь за счет войны! Руги из последних сил сдерживают их натиск на юго-востоке, а гиштанцы сумели остановить их продвижение на юго-западе лишь в горах.
Ранее у султаната не было общей границы ни с Рогорой, ни с Республикой – нас разделяли безводные степи, какое-то время служившие нам защитой. Торхи в этой части Великого ковыля пусть и признавали власть заурцев, но только формально – не платя налогов и по желанию отказываясь служить. Войско султана они могли как беспрепятственно пропустить через свои земли, так и превратить его путь в ад, терзая бесконечными ударами летучих отрядов и засыпав все колодцы и арыки.
И я уверен, что мамлеки ударили именно сейчас неслучайно. Они точно знали, что местные торхи неспособны оказать им сопротивление, потеряв практически всех всадников в Рогоре. Знали, что армия моего отца перестала существовать, измотав при этом и войско Республики, – потому и решились на бросок через степь таким числом. Этот шаг своевременен, логичен и продиктован разумом!
– И все же, – со скучающим видом заметил Бергарский, – прежде чем говорить о неотвратимости столкновения с заурцами, нам нужны более веские доказательства их присутствия, чем слова и… логичность действий мамлеков. Если все это лишь…
– Пленный разведчик-заурец развеет ваши сомнения? – перебил герцога несколько успокоившийся Аджей. – Мои воины перехватили всадника головного дозора мамлеков.
– А чего молчал?!
Выкрик из толпы собравшихся шляхтичей подхватили остальные лехи.
– Потому что любой из вас мог тут же обвинить меня в подлоге, назвав заурца ряженым торхом, владеющим языком. Вы поверите лишь своим разведчикам, вот только дождетесь ли их? В отличие от ваших всадников, мои стражи хорошо знают степь и уже много лет служат в дозорах, потому и сумели уйти от погони, захватив пленного. Боюсь, вы своих людей не дождетесь… А через три дня будете истреблены под стенами крепости.
Да, и к слову о моей выгоде, герцог: вы действительно считаете, что в случае успеха наших переговоров и объединения сил я что-то выигрываю? Мне ведь придется впустить войско недавнего врага в замок, впустить без боя. Или боитесь, что мы опоим ваших людей сонным зельем и вырежем спящих, как поступили лехи у Львиных Врат?
Бергарский поиграл желваками под глухой ропот шляхты, в котором, впрочем, в этот раз улавливалась не только ярость, но и смущение.
– Введите пленника, – принял решение герцог, после чего повернулся к панам. – Есть кто-то, кто сталкивался с заурцами и разумеет их язык?
Вперед выдвинулся Ясмень, высокий и грузный шляхтич с благородной сединой в волосах:
– Я разумею и уверен, что отличу мамлека от торха.
Аджей коротко кивнул, после чего негромко распорядился, и в шатер ввели молодого смуглого мужчину в потрепанной одежде восточного покроя, испачканной кровью. Лицо его пробороздил явно свежий сабельный рубец.
Пан Ясмень громко спросил его на неизвестном большинству наречии, прозвучавшем довольно резко в повисшей в шатре тишине. Пленник ответил на том же языке, явно более чисто; ответил дерзко, с вызовом, яростно сверкая глазами.
– Говорит, что тень султаната уже пала на эти земли, предрек их необратимое завоевание и обозвал всех присутствующих псами, чья скорая гибель согреет его в лучшем мире. М-да… Уверен, это заурец.
Молчание прервал Торог:
– Мы можем сколь угодно долго не доверять словам моего названого брата, но всего несколько часов назад он всерьез схватился со мной на саблях, доклад же разведчиков шокировал его на моих глазах. Я уверен, Аджей не лжет, а мы впустую теряем время, столь дорогое сейчас, при скором приближении мамлеков! Между тем их войско точно разметает нас по отдельности, да и вместе… шансов практически никаких.
Но если мы не сумеем их хотя бы задержать, не сумеем дать королю время собрать войско, султанат захватит Рогору, а чего доброго – и горный проход. Благо что Волчьих Врат больше нет, – лицо Торога болезненно исказилось, – а в Львиных стоит лишь слабый гарнизон. Если это случится, султанат получит великолепный, отлично защищенный горами плацдарм для наступления не только на Республику, но и на все срединные земли! Сорок тысяч их воинов, следующих сюда через степь, – лишь передовой отряд, захватят они Рогору, и сюда придет куда больше… И их не сможет остановить вся шляхта Республики вкупе с лучшими кондотьерами фрязей, которых у вас и так нет!
Присутствующие на совете шляхтичи, вмиг поскучнев лицами, начали озадаченно переглядываться: до них наконец дошла истинная опасность вторжения Заурского султаната в Рогору. Один лишь герцог позволил себе тень легкой, одобрительной улыбки.
Торог вновь обернулся к Аджею и рогорцам, держащимся позади него:
– Но для Рогоры такой расклад будет гораздо хуже не только королевской власти, но и вторжения великих торхов Бату! Ибо последние, разорив страну, ушли, обложив наши земли данью. А султанат придет навечно! Наша земля, наш хлеб станут их собственностью, необходимой для кормления армии. И пусть голод истребит хоть половину страны – главное, чтобы зерна хватило их войску!
Все наши женщины станут для них даже не просто добычей с боя, а безликими самками для вынашивания детей. Их детей! Рогорских дев, баб и вдов – всех, кто способен зачать, – будут целенаправленно брать десятки раз, пока они не понесут. И они ведь будут им рожать, пополняя войско мамлеков послушными и свирепыми воинами! А дети их детей никогда и не вспомнят про Рогору, ибо их воспитают верными подданными султаната…
Мужчины, кто не может держать оружие в руках, станут бесправными рабами, прикованными к земле хозяев. А вот кто способен сражаться… тех ждет выбор. Или быстрая смерть под ятаганами[4], или вступай в азепы[5], коих первыми бросят в бой. Да, пушечное мясо… Или, коль действительно искусен в бою, иди в корпус ени чиры.
В любом случае придется воевать. И пусть враг будет уже знакомый – естественно, вас бросят против Республики, – но сражаться вы будете под чужим знаменем и за чужую цель, а не за собственную свободу. Так что, брат мой, признаешь ли ты мою власть? Или мы отступаем, а ты в одиночку остаешься сдерживать мамлеков?
Аджей ответил острым, проницательным взглядом. Некоторое время он молчал в абсолютной тишине, и наконец словно нехотя разжал губы:
– Вот мы все говорим, Торог, о помощи армии южного гетмана – но какова она будет? Каков ваш план, в случае если мое войско вольется в ваше?
Неожиданно его поддержал пан Ясмень:
– А действительно как? Если разведка пана Аджея, – кивок в сторону присутствующего на совете Ируга, – не преувеличила численность мамлеков – а мы все знаем, что, когда бежишь, число врагов может и утроиться, то каким образом мы их остановим, пусть и объединив силы? Запремся в крепости – и нас просто блокируют, в конечном счете они заставят нас сдаться бесконечными бомбардировками. Да и то если раньше не ослабеем от голода, ведь продовольствия в замке на такую прорву народа надолго не хватит!
Попробуем уйти – но сколько получится отступать? Если мамлеки будут здесь через два дня, их кавалерия нагонит нас еще до того, как мы достигнем неразоренных земель баронства, даже если выступим прямо сейчас. А пятнадцати тысяч всадников будет вполне достаточно, чтобы блокировать нас до подхода ени чиры. Ну а про баталию лоб в лоб я уж и говорить не буду. У них трехкратное численное превосходство – да нас просто сметут!
Аджей заинтересованно посмотрел на него и ответил:
– Наши разведчики не бегут. Они узнают все, что могут, и только после этого отступают. И если Ируг говорит, что в войске султаната не менее пятнадцати тысяч всадников, из которых не менее пяти – тяжелые сипахи, если он говорит, что у них двадцать пять тысяч пехоты при ста орудиях, из них десять – это стрелки ени чиры… Он говорит правду.
– Я безмерно за вас рад, господин Аджей, – вновь раздался в шатре сухой голос Бергарского, – раз вам служат такие умелые разведчики. Что касается вашего вопроса – вашего и пана Ясменя, то скажу следующее: в крепости должен остаться гарнизон. Да, в крепости останется смешанный гарнизон – я соглашаюсь с доводами великого князя и готов объединить силы с рогорцами… Для защиты Барса необходима минимум тысяча бойцов, а лучше полторы – чтобы сумели хотя бы на день задержать мамлеков. Если так, то большая часть объединенного войска спасется, мы отступим к Лецеку и уже там сядем в осаду, запасшись порохом и провизией. Дальше как повезет. Успеет король с гусарами и шляхтой – хорошо. Нет – так пусть хотя бы займет горный проход.
– Очень интересно, – с издевкой сказал Аджей, – а кто же тогда останется в крепости? Не мне ли и моим людям вы предлагаете мученический венец во имя общего блага? А может, сами? Помнится, у вас богатый опыт успешного сидения в осаде!
Глаза Бергарского гневно блеснули, но, прежде чем он что-либо ответил, Торог спокойно произнес:
– Останусь я. Со мной добровольцы с обеих сторон и равным числом, но не менее полутора тысяч.
– Нет!!! – одновременно воскликнули Аджей и Бергарский, однако Торог жестом остановил их возмущение.
– Я все решил. Только мне подчинятся как стражи, да и прочие воины Рогоры, так и шляхетские хоругви. Конечно, мне пригодилась бы помощь авторитетного, благородного пана…
Пан Ясмень, молодцевато выпятив грудь, подался вперед, оставив позади застывшую в нерешительности шляхту:
– Князь, для меня будет честью вместе с вами принять первый удар врага.
Торог одобрительно кивнул, после чего развернулся к Аджею, собравшемуся было что-то возмущенно воскликнуть:
– Брат, это мой долг перед отцом. Перед его памятью…
В последних словах князя прозвучало столько боли, что проняло всех находящихся в шатре. Зять великого князя сдержался и лишь коротко кивнул, однако его лицо посерело так, будто молодой мужчина разом постарел лет на пять. Возможно, потому, что именно в этот миг груз ответственности за судьбу Рогоры окончательно лег на его плечи.
– Эдрик, ты сам понимаешь, что другой на моем месте не справится. Я знаю Барс как свои пять пальцев, я его строил. Я знаю людей, кто встанет на его защиту, из числа воинов Рогоры. Я имею опыт защиты крепостей и уверен, что продержусь не один день. И даже не два. Именно это время вам сейчас просто жизненно необходимо. И я его дам.
Герцог Бергарский, задумчиво выслушав Торога, коротко кивнул.
– Но, Эдрик… Вспомни наш разговор этим утром… Моя семья должна уцелеть. Ты меня слышишь?
И вновь утвердительный кивок.
– Слово чести, Торог. Я сделаю для них все возможное.
– Быть по сему.
Часть первая
Утро псового лая
Глава 1
Осень 107 г. от восстания мамлеков
Алпаслан[6], баш каракуллукчу[7] серденгетчи[8]
Алпаслан плохо помнил свое детство. Смутные, смазанные картинки убранств внутренних покоев гарема, улыбка матери и ее ласковые, теплые объятия. Но встречи с мамой были не слишком частыми, большую часть времени будущий сотник «рискующих головой» проводил при кухне. В будущем, глядя на казан-и шериф орты[9], Алпаслан любил шутить, что к судьбе ени чиры его готовили с самого детства.
Впрочем, так оно и было. С того момента, как их продали в гарем, его будущее было предопределено. Впрочем, первые годы, проведенные рядом с мамой, а потом и младшенькой сестренкой Эсиной, были настоящим подарком судьбы… Каких трудов, каких усилий стоила матери борьба за то, чтобы в неволе ее не разлучали с сыном и чтобы господин Беркер-ага купил ее в свой гарем вместе с малышом, – этого не знает никто.
Джемила – будущий муж неслучайно назвал мать Алпаслана звездой, в ее внешности соединились черты восточных и западных народов. Золотые, как перезрелая пшеница, волосы, ярко-зеленые, словно омуты лесного озера, и в то же время чуть раскосые, как у степнячек или заурок, глаза, восточный овал лица… Ни раннее материнство, ни торхское рабство никак на ней не сказались – впрочем, кочевники, захватившие мать Алпаслана, умели ценить такой дорогой товар, как женская красота. Ценить и беречь.
За девственницу с такой внешностью торхи могли бы запросить меру серебра, равную ей по весу. Сквозь их руки прошло множество рабынь, но немногие обладали такой яркой красотой… Они и хотели выкинуть нечто подобное, забрав сына, – но мать Алпаслана в ярости поклялась, что, если ее разлучат с ребенком, она изуродует свое лицо. Торхи поверили. А Беркер-ага с улыбкой выслушал пылкие речи наложницы, впрочем вскоре ставшей женой, и согласился принять ее сына. В те годы он был румели агасы – старшим офицером, отвечавшим за набор мальчиков и юношей в учебный корпус ени чиры. Еще один новобранец, довеском отданный к красавице-наложнице, нисколько его не смутил.
Да, первые годы Алпаслан помнит смутно… Впрочем, тогда он носил иное имя, коим его величала лишь мать, – на кухне, где ребенок проводил большую часть времени, его называли разными обидными прозвищами. «Белая собака» было самым «нежным» из них. Впрочем, такое отношение к мальчугану сохранялось лишь до того момента, пока мама не стала младшей женой Беркера-ага. С появлением маленькой Эсины изменился как статус молодой женщины, так и ее привилегии – и последние полгода жизни в гареме мальчик провел рядом с мамой и сестренкой в женских покоях.
Самое лучшее, самое спокойное и счастливое время в его сознательной жизни…
А в семь лет Беркер-ага отдал его в корпус ени чиры. И тут-то мальчуган узнал, что такое настоящая ненависть, ярость и страх. Пусть на кухне гарема его унижали и обзывали обидными словами, там его, по крайней мере, никто не бил. Легкие подзатыльники (правда, будучи на кухне он их легкими не считал) не в счет. А вот в корпусе…
Сейчас Алпаслан вспоминал это время с легкой ностальгией – ибо он с честью, достойно мужчины прошел все испытания, брошенные ему судьбой. Корпус стал местом, где сырое железо его тела и души было расплавлено и перековано заново – в стремительный и разящий клинок. Вот только чего будущему «льву» стоила эта перековка в те детские годы…
Сегодня Алпаслан умом понимал причину ненависти будущих соратников. Зависть. И хотя бывший раб никогда не думал, что у других могут быть основания ему завидовать, он очень сильно ошибался…
До корпуса Алпаслан никогда не голодал, даже не знал такого понятия – голод. Пусть на кухне его кормили не яствами для гарема, но на миску жирной бобовой похлебки на мясном бульоне, да с изрядным куском пресной лепешки он всегда мог рассчитывать. Перепадало ему и с господского стола, а уж мама всегда запасала сладостей к их встрече. Попав же в корпус и столкнувшись на первых порах с довольно скудным рационом (как ему тогда казалось), мальчишка позволил себе сказать об этом вслух, ну а заодно поведать только-только появившимся товарищам, как питался раньше. Его жестоко избили – и продолжали избивать всякий раз, когда «откормыш» приходил есть.
Учителя в тот момент еще не вмешивались в отношения между будущими ени чиры. Какое-то время мальчишкам лишь давали немного еды из остатков трапезы старших учеников, да предоставили ночлег в старой, полуразвалившейся казарме. Зато учителя ненавязчиво, но очень внимательно следили за тем, как себя проявят юноши, находясь в среде себе подобных, среди равных. Будущие харизматичные лидеры нередко проявляли себя именно в этом бараке.
Но вряд ли кто смог бы разглядеть в забитом до полубессознательного состояния мальчишке будущего командира «рискующих головой». Нет, тогда Алпаслан, еще не получивший своего настоящего имени, подвергался избиениям и унижениям за все совершенные в жизни проступки.
Что за проступки, если не вспоминать о сытом пузе? Ну как же, ведь он провел первые семь лет рядом с мамой, живой мамой, – в то время как большинство будущих ени чиры были сиротами, лишившимися отцов и матерей в самом юном возрасте. Мало кто из них помнил родительскую любовь и ласку.
А еще его мама стала женой румели агасы – человека, в котором многие видели первопричину своих бед. Да, не Беркер-ага оборвал жизни их родных ударами острого ятагана, не он продал их в рабство. Но для юных зверьков, коими являлись будущие ученики корпуса ени чиры, именно румели агасы олицетворял все зло, несомое султанатом, а Алпаслан стал удобным громоотводом их ненависти.
Мальчишку не убили и не покалечили лишь потому, что семилетние дети еще не ожесточились до крайности. Но и без того постоянный голод и побои практически сломили Алпаслана.
Однажды, в бессилии греясь на солнце после очередной порции тумаков вместо похлебки, мальчик вдруг почувствовал чей-то недобрый взгляд, чье-то присутствие. Испуганно распахнув глаза, он увидел над собой замершего Беркера-ага. Благородное, красивое, мужественно-волевое лицо румели агасы исказила гримаса брезгливого презрения. Вдруг он легким движением руки бросил что-то под ноги мальчишке и произнес слова, которые Алпаслан запомнил на всю жизнь:
– Твоя мать просила о тебе позаботиться, и я внял мольбе супруги, хоть и не вижу в ней смысла. Так что послушай мою мудрость, сын лехского пса: ты или станешь ени чиры, или сдохнешь от голода! Третьего не дано. Я уверен, что вскоре тебя не станет, ведь тот, кто не способен защитить себя кулаками, не защитит и клинком! Впрочем, ты можешь попытаться доказать мне обратное, коли хочешь жить…
Беркер-ага ушел, а Алпаслан еще долго разглядывал сокровище, что бросил румели агасы ему под ноги, – маленький кухонный нож.
Нет, Беркер-ага был не прав на его счет: мальчик пытался защитить себя кулаками каждый день. Но его хватало на два-три, а чаще всего на один удар, прежде чем стая голодных и злых сверстников сбивала его с ног и отчаянно мутузила. И все же он защищался. Вот только сил с каждым днем становилось все меньше… Однако ощутив в руке приятную тяжесть маленького ножа, коим он когда-то разделывал лук на кухне, Алпаслан почувствовал в себе целое море силы – и уверенность, что в этот вечер все изменится.
Когда с кухни корпуса принесли едва теплые котлы с остатками ужина, мальчик как ни в чем не бывало двинулся к котлу – впереди всех. За его спиной раздались удивленные, а после издевательские смешки: все ожидали уже порядком приевшегося развлечения – очередного избиения Алпаслана.
Как же тогда билось его сердце… Ни до, ни после будущий сотник «рискующих головой» не испытывал столь сильного волнения. Но именно волнения, а не страха.
Дорогу ему преградил первый из зачинщиков драки, одновременно являющийся и вожаком самой крупной ватаги мальчишек. Довольно высокий и сильный парень, взявший себе имя Каракюрт (черный волк), он со злорадной ухмылкой ждал приближения Алпаслана, демонстративно сложив руки на груди. За что и поплатился.
Никто не ожидал от вечно забитого «откормыша» столь стремительного рывка вперед. Никто не ожидал, что в его руке окажется клинок. Никто не ожидал, что в самом забитом и жалком из них они же и воспитали звериную ненависть, которой не было в них самих…
И когда в руках «откормыша» вдруг смазанной молнией блеснул нож, а через мгновение во все стороны брызнула кровь – под дикий, животной вопль Каракюрта, – они дрогнули. А «откормыш», сам вдруг по-звериному взревев, бросился к следующему обидчику, застывшему соляным столпом за спиной первой жертвы. И вновь резкий, режущий взмах, и вновь крик боли… Правда, второй парень отделался лишь порезом поднятой для защиты руки, но именно он побежал, открыв Алпаслану дорогу к котлу. А остальные по-прежнему с ужасом смотрели, как Каракюрт пытается зажать руками глазницы и остановить бьющую из них кровь… «Откормыш» же, разогнав своих извечных обидчиков, спокойно подошел к котлу и принялся есть. Впрочем, нет, уже не «откормыш» – именно в тот вечер он принял новое имя, коим его в дальнейшем именовали сверстники и с коим его приняли в корпусе – Алпаслан, храбрый лев.
В один миг превратившись из забитой жертвы в самого опасного хищника стаи, Алпаслан и позже, во время занятий в корпусе или службы в орте, старался во всем быть первым и лучшим. Ему не очень давались чтение, счет, каллиграфия – и мальчик оставался после занятий, умоляя учителей уделить ему еще хоть чуть-чуть времени. Он очень старался и где не мог понять сразу – вновь и вновь возвращался к истоку проблемы, вновь и вновь заставляя себя выводить вязь или ломать голову над счетом.
Алпаслан был твердо убежден, что станет отличным фехтовальщиком, – и действительно владение что саблей, что ятаганом, что кончаром давалось ему сравнительно легко. Но мальчику, а позже юноше и мужчине всегда было мало этих занятий, и он вновь и вновь брал в руки клинки, рисуя в воздухе сложные узоры защиты или атаки. Когда же казалось, что правая рука выучила каждое движение, каждый удар и взмах, Алпаслан брал клинок в левую. И заново учился, казалось бы, уже привычным движениям…
Стрельба, верховая езда, борьба, науки – так или иначе, но в корпусе юноша был лучшим во всем, неслучайно его одного из немногих отправили в орту ени чиры в качестве зембилджи, помощника офицера.
Здесь же, в корпусе, Алпаслан проникся духом воинского братства, товарищества и взаимовыручки, что царит среди ени чиры. Что бы ни было в прошлом, какие бы обиды и даже раны ни нанесли друг другу будущие гвардейцы перед приемом в корпус – здесь они стали даже не соратниками, нет. Здесь они стали братьями… семьей. Да и как не стать, если ты с одними и теми же людьми ложишься спать и просыпаешься в одной казарме на протяжении нескольких лет? Если на четверых делишь единственный припрятанный сухарь? Если вместе с парнями из десятка разделяешь радость победы или горечь поражения на ежегодных учениях? Если именно твой сосед по койке своей же запасной рубахой перетягивал тебе рану на ноге, им же нанесенную тупой саблей, – а через месяц уже ты жертвуешь свою, прорубив его блок ятаганом и зацепив плечо? В корпусе никогда не воровали – за это провинившегося имели право бить смертным боем, в корпусе никогда друг друга не обманывали. И каждый в десятке был готов запросто умереть друг за друга – ибо, прожив и проучившись столько лет вместе, встречая любые трудности спина к спине, будущие ени чиры действительно становились братьями. А испытания перед приемом в корпус никто не вспоминал, даже Алпаслан. С этим периодом у него связаны уже другие воспоминания – как, смеясь, они с братьями оставляли в тарелках половину ужина во время набора будущих ени чиры, отчаянно голодающих в разваленной казарме… Еще одна добрая – действительно добрая традиция корпуса. Ведь мальчишки еще не стали частью их большой семьи, а старшие уже проявляют заботу, делятся куском хлеба. По истечении же обучения в корпусе, став полноправными ени чиры, братья зачастую расставались навсегда – десятки дробили на сотни, мешали друг с другом и отправляли в гарнизоны по всему султанату. А на месте притершуюся сотню вновь дробили по десяткам… И в этом тоже был смысл – ибо молодой воин должен принимать как семью не только свой десяток, но и всю гвардию целиком. Так оно и было – в ортах их ждали точно такие же братья, прошедшие в свое время корпус, и они признавали пополнение частью своей семьи, частью боевого братства.
Свой первый бой Алпаслан принял на земле, именуемой в срединных землях Гиштанией. И он же чуть не стал для него последним – орта юноши оказалась на острие прорыва фряжских наемников-пикинеров. Тогда ощетинившийся кулак баталии протаранил строй ополченцев-азепов, словно матерый вепрь свору молодых псов, и бросился вперед, к жидкой цепи стрелков ени чиры. Юноша поймал пулю в правое плечо – в пятой и шестой шеренгах баталии двигались аркебузуры, – но не покинул строй. Присыпав ранку порохом, он, яростно сжав зубы, воспламенил его и остановил кровь. А после продолжил стрелять и перезаряжать, стрелять и перезаряжать, словно бездушный механизм, – пока фрязи не приблизились к ени чиры на удар копья.
Вооруженные лишь легкими ятаганами и саблями, заурцы были неспособны противостоять таранному удару пикинеров. Но орта не получила приказа отступать – и стрелки встретили атаку врага легкими клинками. Алпаслан был одним из немногих, кто выжил, и до последнего рубил ятаганом нацеленные в него копейные острия пик.
Полководец мамлеков, однако, свое дело знал. Он не дал приказ гвардии отступать лишь потому, что уже нацелил во фланг баталии тяжелую конницу сипахов, и ему не хватало немного времени для маневра. И пять шеренг ени чиры, практически целиком погибшие всего за пару-тройку минут ближнего боя, это самое время и подарили… Сипахи таранным клином ворвались в ряды не успевшей перестроиться баталии, довершив разгром окруженного войска гиштанцев.
Следующий свой бой Алпаслан принял уже в качестве младшего офицера, баш эски, – высокая честь в двадцать лет получить звание «начальника ветеранов»! Но личное мужество, проявленное в схватке с гиштанцами, открыло перед юношей казавшиеся ранее наглухо закрытыми двери. Впрочем, и испытание ему выпало далеко не самое легкое…
Султанат давно имел не только сильную армию, но и могучий флот. Однако в срединном море еще до восстания мамлеков существовали сильные пиратские базы. Поначалу предводители морских разбойников приняли власть султаната, впустили в свои города гарнизоны ени чиры и безропотно отдавали треть добычи. Но жадность и гордыня затмили их рассудок: четыре года назад в условленное время пираты напали на спящие гарнизоны, вырезав ени чиры под корень. После чего разбойники обрушили внезапный удар на базу флота в западной части моря, где и пожгли корабли заурцев прямо на приколе.







