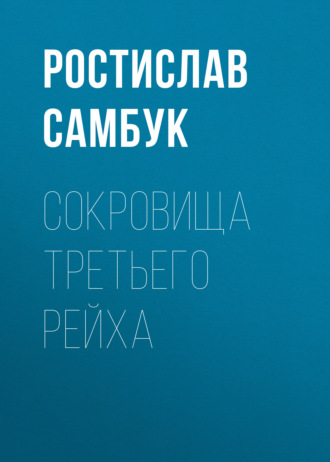
Ростислав Самбук
Сокровища Третьего рейха
Розовощекий предложил Генриетте контракт на три года, но она согласилась только на годовой. Подписала, небрежно глянув на текст договора, поскольку Дюбуи выдал ей аванс и было неудобно вчитываться – фирма, которая не скупится на королевский аванс, не может быть несолидною. Тем более что розовощекий посоветовал:
– Прочитайте внимательно, мадемуазель, нам бы не хотелось, чтобы потом возникли недоразумения. Мы привыкли выполнять свои обязательства, но требуем этого и от вас.
– Я не ищу легкого хлеба, – только ответила она и расписалась.
Дюбуи вручил ей билет на поезд до Марселя и объяснил, где и когда должна быть, чтобы не опоздать на самолет, которым фирма переправит ее и других новых работниц в Северную Африку.
Впервые все они собрались в десять часов утра у отеля «Наполеон». Пятнадцать разных по характеру, взглядам, нравам, но все молодые и красивые.
Кто-то из марсельских пижонов, пораженный такой картиной, не выдержал и предложил:
– Пташки, возьмите меня с собой. А еще лучше оставайтесь здесь. Гарантирую всем шумный успех, а сегодня – веселый вечер…
Он попробовал протолкнуться к дверцам автобуса, в который садились девушки, но споткнулся о своевременно подставленную ногу хмурого верзилы в надвинутой на лоб шляпе.
– Я тебе покажу «пташки»… – прошипел верзила, и пижона как ветром сдуло.
– Поехали, Густав! – позвал верзилу Дюбуи.
Тот сел за руль, и автобус рванул с места. Ловко маневрируя, Густав вывел машину на автостраду, и через четверть часа будущие экскурсоводы уже поднимались в самолет.
Генриетте пришлось сидеть в хвосте, и ее сразу затошнило. Вскоре сделалось совсем плохо, и она бросилась в туалет. Там и услыхала разговор, который огорошил ее. И все же она нашла в себе силы ничем не выдать себя и внимательно слушала, стараясь не пропустить ни одного слова.
Разговаривали в тамбуре по-немецки и не очень опасались – были уверены, что никто из пассажирок не понимает их.
– Нас ждет грузовик и пять легковых машин, – сказал какой-то мужчина за дверью туалета. Генриетта сразу же узнала голос Дюбуи. – Разгрузимся, и вы, полковник, сразу посадите самолет в Танжере. Таможенникам на радость…
– Не забудьте прислать в аэропорт машину, – проговорил полковник на ломаном немецком языке. Потом попросил: – Налейте мне виски, Франц.
– Но вы же ведете самолет, Кларенс…
– Сейчас я включил автопилот… Глоток спиртного никогда не помешает.
Уже начало этого разговора насторожило Генриетту, почему Дюбуи из Жана вдруг превратился во Франца? И тут она припомнила, что уже при первом знакомстве заметила у него иностранный акцент, но мосье служил в Африке, и это не показалось странным. Но при чем здесь таможенники?..
– Вы же знаете, я спокойно отношусь к прошлому, – произнес Франц.
– Это пока не заденет вас лично, – отпарировал полковник. – И ваших дел в…
У Генриетты оборвалось сердце: полковник произнес это слово спокойно и безразлично, так, как она говорила о Париже, Лионе, Гамбурге, Лондоне. Но это слово стало символом смерти – только недавно она слышала его из уст Сержа Дубровского.
Франц сказал недовольно:
– Я же просил вас…
– Вы стали пугливы. Нас никто не слышит, а если бы и услыхали…
– И все-таки…
После паузы полковник спросил:
– Когда вы скажете девчонкам о перемене их профессии?
– Не люблю откладывать. Лучше сейчас.
– Я взгляну на приборы и приду посмотреть спектакль.
Сразу все стихло. Генриетта осторожно выскользнула из туалета и чуть не столкнулась с розовощеким. Тот посмотрел на нее подозрительно, спросил по-немецки:
– Что вам тут нужно?
Генриетта сообразила, что не следует выдавать свое знание немецкого, и только пожала плечами.
– Сядьте на свое место, мадемуазель, – приказал тот уже по-французски.
В конце самолета стоял Густав, широко расставив ноги и заложив руки за спину.
Франц прошел вперед, заглянул в кабину – оттуда вышел человек еще выше Густава и наверняка сильнее.
«Полковник», – поняла Генриетта. Она сидела возле иллюминатора, спрятавшись за спинку кресла, и ждала. Догадывалась: сейчас произойдет нечто страшное.
– Минутку внимания, девушки, – захлопал в ладоши розовощекий. – Я должен сделать довольно срочное и, может, для некоторых неприятное сообщение… – Вынул из кармана какие-то бланки, помахал ими над головой. – Знаете, что это такое? Точные копии договоров, которые вы подписали с нашей фирмой. Обратите внимание на пункт шестнадцатый… – Бросил бланки передним девушкам. – Вчитайтесь в него внимательно, мои козочки. Понятно? Кто из вас нарушит договор – заплатит пятьсот тысяч франков! – Улыбнулся доброжелательно и сказал мягко, ласково, словно сообщал что-нибудь успокоительное: – Но это так… Просто для формы, мои дорогие, чтобы вы поняли, что нет смысла брыкаться и показывать коготки. Но что поделаешь, наша фирма имеет уже достаточно экскурсоводов, мне сообщили об этом уже в последнюю минуту, и вам придется как-то по-другому обслуживать клиентов… В ночных кабаре Танжера… Вы поняли меня, козочки?..
Ровно гудели моторы, никто из пассажиров не проронил ни слова. Потом девушка, сидевшая за Генриеттой, сказала тихо и как бы с удивлением:
– Какой мерзавец!
А другая, не поднимаясь, произнесла спокойно:
– Вы плохой шутник, мосье Жан…
– Если вы так воспринимаете мою откровенность, то я молчу… Но прошу учесть, мы не церемонимся с непокорными!
Теперь поняли все. Кто-то заплакал, а высокая брюнетка, что сидела в первом ряду, зло бросила розовощекому в лицо скомканный договор и истерично закричала:
– Вы негодяй!.. Мы пожалуемся! Вы не имеете права!..
– Имеем, козочки… Обратите внимание на пункт четырнадцатый: фирма может использовать вас на других работах. Вам ясно, мадемуазель? На других работах…
– Подлец! – Девушка закрыла лицо руками и заплакала.
– Вам не удастся нас обмануть! – Вскочила ее соседка и двинулась на Франца с поднятыми кулаками. – Мы заявим в полицию!
Полковник сделал шаг вперед, и девушка отступила, словно натолкнулась на непреодолимую стену.
– Вот что, райские птички, – произнес грозно полковник, – я с вами не собираюсь разводить церемоний! Я здесь и полиция и закон! Кто не будет повиноваться, голову сверну!..
– Так точно… – подтвердил Франц. – Однако должен напомнить вам, козочки, что мы предлагаем прекрасные условия. Можете получить вдвое, а то и втрое больше, чем обусловлено контрактом. За три года можно заработать приличную сумму. Вернетесь в свой Париж богатыми невестами… Решайте, фирма гарантирует полную секретность.
– Какой мерзавец! – не выдержала соседка Генриетты, рванулась вдоль сидений, занесла над головой сумочку, но Франц перехватил ее руку, толкнул в грудь. Девушка зашаталась, но удержалась на ногах, ухватившись за спинку кресла, затем плюнула Францу в лицо.
Франц поднял руку, еще мгновение – и ударил бы, даже пощечина принесла бы ему удовлетворение, – но сдержался.
– Я припомню это вам, мадемуазель… – процедил со злобой, вытираясь. – Густав! Наведи порядок!
Тот протиснулся в узком проходе, положил девушке на плечи руки, легко подмял ее, завернув руки назад, и бросил в кресло, да так, что она ударилась головой о бок Генриетты.
– Ну? – спросил Густав. – Кому еще не нравится?
Все молчали.
– Ничего, козочки, привыкнете, – сказал розовощекий благодушно. – У вас будут прекрасные условия: отдельная комната, хороший портной, вкусная еда… Вам просто повезло, мои дорогие…
Генриетта приподнялась.
– Чего тебе? – задержал ее Франц. – Куда?
Генриетта только указала в сторону туалета.
– А-а, – розовощекий пропустил ее, но, когда она взялась уже за ручку двери, остановил резким окриком: – Стой!
Заглянул сам в туалет, осмотрел все тщательно. Генриетта оперлась о стенку, вынула платок из сумки, зажала рот.
– Иди! – подтолкнул ее Франц, и Генриетта склонилась над умывальником, закашлялась.
Ангел постоял несколько секунд и прикрыл дверь.
Девушка, продолжая кашлять, быстро вынула из сумочки блокнот, прыгающим почерком набросала несколько строк, вырвала страничку, сунула в конверт и написала адрес. Заклеив конверт, сунула его под блузку и вышла из туалета.
Спутницы сидели тихо, с ужасом поглядывали на Густава, прохаживающегося между креслами.
Генриетта упала на свое кресло и посмотрела в иллюминатор. Далеко внизу, где морская синь сливалась с синевой неба, проступала темная полоса. Самолет уже шел на посадку.
Франц спрыгнул на землю первым. Генриетта видела, как он делал кому-то знаки, размахивая руками. Скоро из-за кустов медленно выползли легковые автомашины.
Франц оглянулся и позвал:
– Выходите, мадемуазель Лейе!
Сказал как добрый знакомый, который сейчас подаст руку и поможет сойти по трапу.
– О багаже не волнуйтесь, его привезет грузовик.
Генриетта зашла за хвост самолета, осмотрелась вокруг. Окна в машинах закрыты шторами. Она сломала ветку куста, глянула исподлобья: не смотрит ли кто? Затаив дыхание, вытащила конверт, чтобы наколоть его на длинную колючку, но не успела сделать это: рядом затормозила длинная серая машина. Прикрыла конверт сумочкой и первой влезла в машину, чтобы занять место с краю.
Автомашины уже отъезжали, когда Франц плюхнулся на первое сиденье. Ехали по выбоинам, раскачиваясь в разные стороны.
Выбрав удобный момент, Генриетта надавила коленом на рукоятку – дверца открылась, и конверт упал в щель.
– Закройте двери, – резко обернулся Ангел. – Бежать тут некуда!
Генриетта выдержала его взгляд.
Сергей брился в ванной, когда зазвонил телефон. Дубровский, выключив электробритву, поспешил к письменному столу. Вначале ничего не понял – какой-то взволнованный голос сообщал о письме из Танжера… о несчастье…
– Извините, ничего не пойму. Кто это?
– Боже мой, это же я, Анри!.. Анри Севиль. Только что получил письмо от Генриетты… из Танжера… Она попала в беду, и я хотел бы… Ты сейчас будешь дома? Беру такси…
Сергей немного постоял возле стола, но, так ничего и не сообразив, возвратился в ванную.
Анри буквально ворвался к нему, растрепанный и небритый, галстук перекосился – всегда аккуратный и подтянутый Анри. Дрожащими руками совал Сергею грязный, помятый конверт и, казалось, вот-вот заплачет или закричит от отчаяния.
Дубровский тут же, в прихожей, пробежал глазами письмо. Корявые буквы, строчки расползлись в разные стороны:
«Спасайте, ради бога, спасайте! Если это письмо не дойдет по адресу, обозначенному на конверте, передайте его полиции. Мое имя Генриетта Лейе. Человек, который назвал себя Жаном Дюбуи, завербовал в Париже меня и еще четырнадцать девушек на работу в Африку. Вылетели самолетом с аэродрома близ Марселя. Нас собираются продать в ночные кабаре. Дюбуи и полковник Кларенс. Настоящее имя Дюбуи – Франц. Во время войны он служил в концентрационном лагере в Польше. Среднего роста, розовощекий. Наш самолет держит курс на Танжер. Это все, что я знаю. Кто бы вы ни были, спасайте нас!»
– Я ничего не знаю! И вообще ничего не понимаю… – чуть не плакал Анри.
– Она, наверно, выбросила письмо где-нибудь по дороге или передала с кем-нибудь.
– Я получил его час назад…
– Вот что, – рассердился Дубровский, – поплакать ты всегда успеешь. – Подал Анри бритву. – Брейся и будем решать, что и как делать.
Очевидно, решительность Дубровского подействовала на Севиля. Покорно включил бритву и стал бриться, выжидающе глядя на Сергея.
Тот размышлял вслух:
– Итак, приблизительно пятнадцатого мая Генриетта Лейе подписала контракт и попала в руки гангстеров, которые вывезли из Франции пятнадцать девушек для продажи в ночные кабаре Танжера. Можно установить, какой самолет вылетал примерно в это время из района Марселя. Хотя вряд ли этот Франц и полковник Кларенс, как называет их Генриетта, оставили свои визитные карточки…
Внезапно Дубровский, задохнувшись, сел на тахту.
– Розовощекий… розовощекий… – беззвучно двигал губами. – И служил в лагере в Польше…
Он потер лоб, словно старался отогнать зловещие видения, но перед глазами не исчезали сторожевые вышки с пулеметами, ограда из колючей проволоки, мрачные кирпичные бараки.
…С неба сеял холодный и мелкий дождь. Они – это Владимир Игнатьевич Заболотный, работник из белорусского города Мозыря, и он, Сергей Дубровский, который всего лишь полгода назад был старшим сержантом, но, попав в плен, стал заключенным этого лагеря смерти – человек под номером 110182.
Седоголовый Владимир Игнатьевич специально вызвал в уборную Сергея как одного из участников лагерного Сопротивления, и теперь они разговаривали, не боясь третьих ушей. Все в лагере жили надеждой, что терпеть осталось не так уж много. Только что Заболотный принес подтверждение этому: там, на востоке, началось новое наступление, и советские войска подошли к границам Польши.
Дубровский смотрел на серое дождливое небо, и ему вдруг послышался гул канонады, он обрадовался, словно это и на самом деле была канонада, вытянул шею, насторожил уши.
И засмеялся…
Заболотный вдруг схватил его за руку, и Сергей взглянул на него удивленно. Но сразу посмотрел туда, куда показывал глазами Владимир Игнатьевич, и осекся.
На красной кирпичной дорожке, ведущей к баракам, стоял офицер в блестящем плаще. Стоял неподвижно, казалось, не смотрел на них, но поманил пальцем, и они пошли к нему, сразу сникнув.
Сергей узнал офицера еще издалека, поскольку привык видеть эту фигуру, когда заключенные строились на лагерном плацу и тот стоял чуть поодаль от остальных офицеров в черном – вершитель судеб, гауптштурмфюрер СС, комендант лагеря.
Невысокий, толстый, он проигрывал рядом со своими подчиненными, даже манера держать руки в карманах и переступать с ноги на ногу делала его каким-то домашним в сравнении с крепкими надзирателями, белой вороной в черной стае. И сейчас, когда Сергей имел возможность рассмотреть коменданта вблизи, он произвел на него такое же впечатление: розовощекий, как ребенок, и нет ничего грозного во взгляде. Даже улыбается.
Они стояли перед ним – двое мужчин в мокрой полосатой одежде, которая делала их жалкими.
Офицер разглядывал их с любопытством и, Сергею показалось, без злобы: поймал даже веселую искорку в его глазах. Он смотрел на розовые щеки, видел, как двигаются губы коменданта – яркие, пухлые, знал, что эсэсовец что-то говорит, но ничего не понимал и даже не слышал его голоса.
Но почему офицер тычет стеком в грудь Заболотного?
Комендант пошлепал носком сапога по жидкой грязи и спросил нетерпеливо:
– Понял?..
Только теперь Дубровский уяснил, чего добиваются от него, вернее, Сергей понимал это и раньше, понимал все время и слышал, просто казалось, что не слышал, словно были слова, и не было их. Он успел даже подумать, что может дотянуться не только до розовых щек (интересно, на самом ли деле они такие бархатные, как кажется?), но и до комендантского горла. Он сделает это быстрее, нежели тот успеет защититься, и, пожалуй, у него хватит сил, чтобы одним рывком разорвать хрящи гортани.
Это желание было настолько сильным, что почувствовал, как онемели кончики пальцев; но все же пересилил себя, а может, просто взял верх инстинкт самосохранения, который заставлял заключенных втягивать голову в плечи и горбиться при виде эсэсовцев, – шагнул назад, ибо не мог сделать то, что заставлял эсэсовец, даже под угрозой самого большого наказания.
И в это мгновение встретился глазами с Заболотным.
Они смотрели друг другу в глаза, может быть, один миг, а может, и больше. Владимир Игнатьевич не подал ему ни одного знака, даже не моргнул; зрачки его расширились, и серые глаза сделались черными. Он приказывал глазами, и Сергей понял его. Поднял руку и увидел, как послушно согнулся Заболотный, не ждал, пока пригнут его к земле, сам стал на колени, погрузив лицо в грязь.
Дубровский прижал его совсем легко и сразу отпустил, но немец толкнул Сергея сапогом в бок и приказал: «Сильнее! Не жалей его!»
Сергей не мог сделать этого, но почувствовал, как от его совсем легкого толчка Заболотный так шлепнулся в грязь, что полетели брызги, – теперь он вполне понял Владимира Игнатьевича и начал тыкать быстрее. Видел только носки сапог коменданта и знал, что тот следит внимательно: толкал Заболотного по-настоящему, но все же вполсилы – хорошо, что комендант не знал, не мог знать, какая сила еще таилась в Сергее.
«Хватит…» – наконец послышался приказ.
Сергей отвернулся, чтобы не видеть окровавленного лица Заболотного, – не мог, не имел права смотреть на него, потому что мог выдать себя, наверняка выдал бы – нервы уже не выдерживали: заплакал бы от отчаяния либо бросился на розовощекого…
Если бы комендант в этот момент смог заглянуть ему в глаза, возможно, уловил бы в них мгновенную улыбку. Сергей застыл в ожидании: видел только комендантские сапоги, нетерпеливо переступающие на месте; это предвещало нечто недоброе, и в самом деле немец выкрикнул зло: «Отомсти ему!..»
На затылок Сергею легла мокрая и холодная рука, грязь потекла по шее. Владимир Игнатьевич надавил ему на затылок, и Дубровский понял, что Заболотный благодарит и подбадривает его. Это взволновало Сергея, какой-то нерв оборвался, он всхлипнул, сам бросился в грязь, бился лицом о землю, стараясь хоть немного приглушить ту боль, что рвалась изнутри с рыданиями.
Сколько прошло времени, не помнил – бился, как в эпилептическом припадке, но вдруг его грубо одернули и остановили. Сергей открыл глаза, заметил, как из носа в кровавую лужу капает жидкая грязь, и капли почему-то красные, никак кровавые. Откуда кровь? Сразу понял и вытер рукавом лицо. Увидев черную спину коменданта, который, не оглядываясь, шагал по кирпичной дорожке, поднял глаза и встретился взглядом с Заболотным.
Лицо Владимира Игнатьевича напоминало кровавое месиво, все в липкой грязи – виднелись только глаза, смотрящие, как всегда, с хитринкой. Он вынул из кармана какую-то тряпку, вытер лицо Сергею и стал вытираться сам.
– Спасибо тебе, парень, не плачь, глупый, еще раз говорю: спасибо… – сказал Заболотный.
Но Сергей всхлипнул, хотя и знал, что самое страшное уже позади и Владимир Игнатьевич прав: стоило ему не послушать коменданта, и этот день стал бы для него последним. А они надеялись выжить, умереть здесь было легко, смерть подстерегала на каждом шагу – непроизвольно Сергей взглянул в сторону крематория, над которым клубилась черная туча, – действительно сегодня им повезло…
Дубровский осознавал это, но не мог перебороть боль, вырывавшуюся из него хриплыми рыданиями, – эта боль не утихла даже по сей день, хотя после войны уже прошло много лет.
Иногда Сергей получал письма от Заболотного, который работал где-то под своим Мозырем. Сергей знал, что тогда они спасли жизнь друг другу, но раковая опухоль позора все же жила в нем, и он временами даже задыхался от нестерпимой боли, вспоминая вонючую грязь, блестящие комендантские сапоги, и думал, что, может, лучше было тогда умереть…
И сейчас, только вспомнив розовощекого, почувствовал, как знакомая боль пронизала сердце.
Приземистый комендант в блестящих сапогах. Розовощекий человек с улыбкой добряка. Весь мир впоследствии узнал о нем. Гауптштурмфюрер СС Франц Ангел.
Внимательно прочитав письмо еще раз, Дубровский искоса взглянул на Анри. Тот еще брился, для удобства подперев языком щеку. Наверно, прошло несколько секунд, а Сергей пережил, казалось, вновь все лихолетье.
Отложил письмо и сказал:
– Необходимо срочно обратиться к полиции. Есть там знакомые?
Севиль неопределенно хмыкнул:
– Я могу попросить наших уголовных репортеров…
– Не нужно… – Дубровский уже вертел телефонный диск. – Соедините меня, пожалуйста, с комиссаром Диаром. Доброе утро, комиссар. Вас беспокоит Дубровский. Помните, мы встречались в клубе… вынужден напомнить о себе. Наберитесь терпения, я прочитаю вам один документ.
Сергей познакомил комиссара с письмом Генриетты.
– Минутку! – забубнил в трубке голос Диара. – Я сейчас позвоню одному человеку… – И через некоторое время: – Вы слушаете меня, мосье Дубровский? Сейчас вам следует подъехать на улицу Поль-Валери. Интерпол. Знаете, где это? Комиссар Фошар ждет вас.
Над стареньким и совсем не фешенебельным особняком на Поль-Валери развевался флаг Международной организации уголовной полиции, которую обычно называют одним словом – Интерпол. Дубровский увидел этот флаг издалека: на голубом фоне разбегались во все стороны серебристые лучи, знаменуя, очевидно, силу правосудия. Может, этот флаг произвел впечатление и на Анри, так как тот приободрился и уверенно толкнул тяжелую дубовую дверь.
Их провели в кабинет комиссара сразу. Поднялись по узкой лесенке, миновали темный коридор со скрипучими от времени половицами, и полицейский открыл перед ними дверь кабинета.
У Фошара сидел еще кто-то. Сергей неприветливо взглянул на него: хотел поговорить с комиссаром с глазу на глаз. Видно, Фошар перехватил этот взгляд, так как сразу представил присутствующего:
– Комиссар Люсьен Бонне, господа. Он будет расследовать ваше дело. Меня просил господин Диар, Бонне – моя правая рука, господа…
Комиссар Бонне совсем не был похож на детективов из популярных полицейских романов – высоких, статных, с пронзительным взглядом холодных серых глаз. Не напоминал он и сименоновского Мегрэ с неизменной трубкой. Дубровского даже поразила его скромность и, как бы сказать, несоответствие со сложившимися представлениями о сыщиках. Люсьену Бонне можно было дать самое большое лет сорок, даже меньше, наверно, так и было на самом деле, потому что на его лице не залегла еще ни одна морщинка, а на макушке торчал задиристый вихор.
Бонне улыбнулся, и его улыбка опять-таки разочаровала Дубровского. Он улыбался не по правилам – как улыбается человек, который искренне симпатизирует вам, – и это отступление от правил, какое первоначально огорчило Дубровского и даже немного смутило (возможно, комиссар хотел отделаться от них и вместо опытного полицейского волка подсунул желторотого новичка), все же растопило его недоверие, и Сергей сердечно ответил на крепкое пожатие руки комиссара, не без удовольствия отметив, что Бонне силы не занимать.
Фошар угостил их кофе, и Анри долго и путано рассказывал историю своего знакомства с Генриеттой Лейе, нервничал, вздыхал, смущался и недоговаривал.
Когда Анри закончил, Дубровский счел необходимым добавить, что он, наверно, знает одного из преступников, это Франц Ангел, бывший гауптштурмфюрер СС и военный преступник, комендант большого концентрационного лагеря в Польше, где во время войны уничтожена не одна сотня тысяч невинных людей.
Комиссар остановил его:
– Нас не интересует прошлое Ангела, кем бы он там ни был. Розыск эсэсовских преступников не входит в компетенцию Интерпола.
– Но вы же не могли не слышать этого имени… Франц Ангел… На Нюрнбергском процессе его фамилию называли не один раз, и Ангела не внесли в списки разыскиваемых военных преступников только потому, что где-то нашли документы, свидетельствовавшие о его смерти.
Комиссар посмотрел на Дубровского отчужденно:
– Этот факт имеет значение… Хотя вряд ли солидная газета напечатает сейчас материал об Ангеле, опираясь на такие сомнительные и бездоказательные вещи, как намеки в письме мадемуазель Лейе.
– Я видел Ангела так, как вижу сейчас вас, и думаю, что Генриетта Лейе не ошибается. У Ангела есть примета – розовые щеки. Понимаете, у солидного человека детские розовые щеки. Генриетта сразу обратила на это внимание.
– Если бы сам Гитлер сейчас поднялся из могилы и встретился мне на Елисейских Полях, – сказал Фошар, – я не имел бы права его задержать. Интерпол расследует только уголовные преступления. Третий параграф нашего устава запрещает вмешиваться в любое дело, если речь идет о политике, религии, обороне государства или о проблемах расовой дискриминации. Далее, – комиссар постучал пальцами по письму Генриетты и продолжил: – Не дай бог, чтобы известия об этом проникли в прессу. Это будет равносильно предупреждению преступников. Они уйдут в такое подполье…
– Я не уверен, – вмешался комиссар Бонне, – что и без этого наш путь будет устлан розами. Может быть, Танжер у них вообще перевалочный пункт? Я ищу их там, а они давно уже на Ближнем Востоке или черт знает где… Людей с розовыми щеками немало, а этот Ангел давно уже имеет надежные документы, и попробуй докажи, что это и есть он…
– Да, – подтвердил Дубровский, – он отличался осторожностью, и жаль, что мы не имеем его фотографии.
– Это усложняет дело, – нахмурился Фошар. Немного подумал и спросил: – Вы говорите, что видели Ангела в лагере. Узнали бы его сейчас?
Сергей на мгновение зажмурил глаза. Разве может он когда-нибудь забыть тот день? Блестящий плащ, по которому стекают дождевые капли, толстый комендант и его улыбка… Кивнул уверенно.
– Я узнал бы его среди тысячи.
Комиссар смотрел на Сергея задумчиво. Предложил сразу, будто речь шла о поездке в Нанси или Руан:
– Не смогли бы вы слетать с комиссаром Бонне в Танжер? Мы решим все формальности и…
Дубровский сразу согласился:
– Я должен связаться с Москвой, но, думаю, в агентстве, где я работаю, не возразят. Для вас Ангел только уголовный преступник, для нас все это значительно важнее.
Анри, который не встревал в разговор и сидел с таким видом, словно удивлялся, как можно интересоваться мелочами, когда речь идет о его невесте, вдруг сказал:
– Я полечу тоже!
Фошар удивленно пожал плечами.
– Мы не можем запретить вам, летите в любой город, но учитывайте, мосье Севиль, интересы следствия. Это не прогулка – преследование преступников часто связано с осложнениями.
– Понимаю ваше положение, комиссар, – отозвался Севиль, – но ведь речь идет о моей невесте. Я полечу в Танжер как частное лицо, – кивнул в сторону Бонне, – но полиция в любую минуту может рассчитывать на меня.
– Аргумент, что и говорить… убедительный… – проворчал Фошар. – Повторяю, это ваше личное дело. Я хотел бы только предостеречь, чтобы вы не прибегали к частному розыску. Это только напортит. Впрочем, вы, может быть, и пригодитесь комиссару. – Фошар встал, заканчивая разговор. – Мосье Бонне, надеюсь, найдет с вами общий язык, господа…
В другом кабинете Анри спросил Бонне:
– Когда отправимся?
– Два дня на подготовку мне хватит.
– Два дня! – в отчаянии схватился за голову Севиль. – Вы шутите, мосье!
– Танжерскую полицию мы проинструктируем уже сегодня, – успокоил его Бонне. – А мне необходимо ознакомиться с архивами. Не исключено, что этот Ангел оставил какие-нибудь следы и у нас. Продает девушек, а это чистой воды уголовщина.
– Когда основана ваша организация? – спросил Дубровский. – Возможно, я проявляю поразительную неосведомленность, но не приходилось иметь дела…
– Даже опытные полицейские репортеры проявляют такую неосведомленность, – заметил Бонне. – Интерпол мог быть создан еще до Первой мировой войны. В четырнадцатом году сыщики уголовной полиции собрались на свой первый международный конгресс в Монако. Но, к сожалению, началась война, а война не способствует объединению даже полицейских. Новая встреча произошла только через девять лет в Вене. Тогда же, в двадцать третьем году, была основана Международная комиссия уголовной полиции – мать нашей организации. Однако эта мать, – Бонне саркастически улыбнулся, – умерла еще младенцем. Штаб Интерпола тогда находился в Вене. После оккупации австрийской столицы гитлеровцами Гейдрих конфисковал все архивы Интерпола и перевез их в Берлин. Вы понимаете, господа, для чего?
– Чтобы гестапо использовало преступников… – ответил Сергей, хотя вопрос был скорее риторичным и Бонне собирался сам ответить на него.
– Со шпионско-диверсионной целью, конечно, – уточнил тот. – Фашисты поставили точку на Интерполе.
– И он возродился уже после войны? – спросил Дубровский.
– Сама жизнь потребовала возобновления нашей деятельности, – ответил Бонне. – Война принесла не только разруху. После сорок пятого года кривая преступности неуклонно пошла в гору. Частые ограбления банков, стремление гангстеров сбыть украденные ценности и найти пристанище за границей стран, в которых они действовали, заставили правительства искать новые формы борьбы с преступностью. В результате и была создана Международная организация уголовной полиции. Сейчас в нее входят государства Западной Европы, страны Северной и Южной Америки, а также Африки и Азии. В каждой стране-участнице создано национальное бюро Интерпола. Кажется, все, господа. А теперь я должен покинуть вас. Я закажу на всех билеты на самолет и сообщу вам дату вылета.
Несколько дней Севиль, Бонне и Дубровский бродили по Танжеру. Бонне иногда таинственно исчезал куда-то на два-три часа, но от всех прямых и косвенных вопросов Анри отделывался либо шутками, либо отмалчивался.
Дубровский был терпеливее друга, хотя, ставя себя на место Анри, целиком оправдывал его: кто и когда из влюбленных отличался рассудительностью?
Слонялись они, с легкой руки комиссара, по ресторанам и пивным. Бонне заводил длинные разговоры с кельнерами, шутил с девушками-официантками.
Сегодня утром он опоздал на завтрак и, не ожидая вопроса Анри, объяснил:
– У нас есть время, можете не спешить и спокойно пить свой кофе.
– Скоро вы доконаете меня, – ворчливо начал Анри. – Я не вижу смысла в наших ресторанных путешествиях. По мне так…
– Вы не комиссар полиции, а журналист, Анри, – отмахнулся Бонне, – и это накладывает отпечаток на склад вашего характера. Но, смею вас заверить, в нашем деле поспешность излишня…
– Я слышал уже это от всех знакомых полицейских, и каждый говорит об этом так, как будто открыл Америку.
Дубровскому нравился открытый характер комиссара и его простодушие, правда, немного смущала прямолинейность и ограниченность Бонне в делах, не связанных со служебными обязанностями, но хорошо было, что Люсьен имел голову на плечах, а это, как известно, присуще не каждому полицейскому комиссару. Кроме того, был он человеком честным, на которого можно положиться в трудную минуту, и, безусловно, храбрым.
– Я уже объяснил вам, Анри, – сказал Бонне, – что мы находимся в независимом государстве и дело розыска преступников – прерогатива марокканской полиции. Я помогаю ей с согласия министра внутренних дел. Только помогаю! – засмеялся. – Ну а вы уже помогаете мне.
– Не много ли помощников? – спросил Дубровский.
– Разве ж в этом дело?.. – сокрушенно покачал головой Бонне. – Если бы я сейчас встретил этого Ангела, смог бы только раскланяться с ним. Необходимо прежде доказать его преступление, иначе он только посмеется над нами. Любой прокурор не выдаст вам ордер на его арест.
– Известный военный преступник, – пожал плечами Дубровский. – На его совести тысячи жертв…
– А его нет в списках военных преступников. Кроме того, вам уже говорили, что Интерпол не занимается такими преступлениями.




