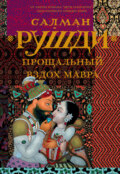Салман Рушди
Флорентийская чародейка
Оставшись один на один с флорентийцем, врач признался ему, что внезапный обморок пациента ставит его в тупик.
– Насколько я могу судить, – сказал он, – слава Господу, капитан ничем не болен, только почему-то никак не проснется. Что ж, – меланхолично заключил он, – быть может, в этом недружелюбном мире лучше спать и видеть сны, нежели бодрствовать.
Врача, свидетеля многих кровопролитных сражений, прозвали Хоукинс Слава Господу. Добрый и простой, с весьма скудным багажом познаний в медицине, он исправно отрезал конечности, умело извлекал пули и зашивал раны после очередной рукопашной с испанцами, но справиться с поразившим капитана таинственным недугом, взявшимся неизвестно откуда, словно только что обнаруженный “заяц” или наказание Господне, оказалось ему не под силу При Вальпараисо Хоукинс лишился левого глаза, при Номбре-де-Диос потерял половину ноги. Ночи напролет он распевал жалостливые португальские фаду, обращенные к некоей девице на балконе в окрестностях Опорто. Он аккомпанировал сам себе на цыганской скрипочке и горько плакал. Учелло без особого труда догадался, что при этом добряк доктор думал об оставленной дома супруге или возлюбленной и растравлял свою сердечную рану картинами того, как она, подвыпив, ублажает в постели не калек, а вполне здоровых мужчин: рыбаков, провонявших рыбой, похотливых францисканцев, которые, словно привидения, наводнили страну после первых конкистадоров, а также всех прочих, независимо от цвета кожи и происхождения: мулатов, метисов, англичан, китайцев и евреев. “Одурманенный любовью себе уже не хозяин, обмануть такого будет нетрудно”, – подумал Учелло.
“Скатах” обогнула Африканский Рог, прошла мимо острова Сокотра, пополнила продовольственные запасы в Маскате и, подгоняемая муссонным ветром, двинулась от персидских берегов на юго-восток, держа курс на порт Диу, который португальцы называли земным раем, а доктор Хоукинс – Гузератом. Лорд Хоуксбенк меж тем продолжал мирно почивать.
– Его сон так безмятежен, – беспомощно вздыхал добряк Хоукинс. – Это доказывает, что совесть его чиста и по крайней мере душа его вполне здорова и готова к встрече с Создателем в любой момент.
– Не допусти Господь! – воскликнул Учелло.
– Славься, Господь, и пока не забирай его от нас! – подхватил Хоукинс.
Во время их долгих бдений у постели больного Учелло подробно расспрашивал доктора о его далекой португалке, и Хоукинс отвечал ему с большой охотой. Флорентиец терпеливо выслушивал восторженные гимны в честь ее очей, ее губ, грудей и бедер, живота, зада и стройных ног. Он выучил наизусть все тайные (но теперь переставшие таковыми быть) ласкательные имена, которыми они наделяли друг друга в постели, он узнал, что она клялась любить его вечно.
– Она лгала, лгала! – рыдал доктор.
– Тебе это доподлинно известно? – спросил Учелло, и когда добрейший Хоукинс Слава Господу, уныло повесив голову, проговорил: “Все это было так давно, а от меня осталась всего половина, так что уж лучше приготовить себя к самому худшему”, – флорентиец сумел разогнать его печаль: – Брось горевать, Слава Господу! Лучше возблагодари Его, ибо ты грустишь напрасно. Лично я уверен, что она тебе верна и ждет тебя не дождется. У тебя не стало ноги? Ну и что? Это всего лишь значит, что всю освободившуюся ввиду отсутствия ноги любовь твоя женщина разделит меж другими частями тела. Нет одного глаза? Зато другим, здоровым, ты будешь с удвоенным жаром взирать на ту, что хранила тебе верность и любит тебя так же, как ты ее. Довольно причитать, Слава Господу! Спой веселую песню и перестань проливать слезы.
Утешая таким манером простака эскулапа и уверяя беднягу, что моряки будут горевать без его песен, флорентиец оставался один на один с впавшим в кому Хоуксбенком и ночь за ночью обследовал обшивку каюты в поисках тайников. Он рассудил, что человек, устроивший один тайник, вряд ли им ограничится, и оказался прав. К тому времени, когда на горизонте замаячил порт Диу, он общипал высокородного Хоуксбенка как хороший повар – цыпленка. Он обнаружил семь тайников, и теперь все драгоценности вместе с деревянными коробочками и семь золотых слитков обрели новое место обитания в бесчисленных карманах плаща Шейлока, причем плащ по-прежнему казался легким как перышко: зеленоглазый араб из Венеции знал свое ремесло, и сколько драгоценных предметов ни пряталось в складках волшебного плаща, он выглядел невесомым. Что же касается “диковинок”, то нашего воришку они не заинтересовали: флорентиец оставил их мирно дремать в своих гнездышках. “Пусть ими подкормятся другие пичуги”, – решил он. Однако огромный улов не удовлетворил Учелло, потому что главное сокровище пока еще не было им обнаружено. Учелло старался не впадать в отчаяние. Судьба дала ему в руки величайший шанс, и он был просто обязан воспользоваться им! Где же это может находиться? Он обследовал уже все помещение, но безрезультатно: желанная вещь так и не нашлась. Черт возьми, неужто это сокровище заговорено и сделалось невидимо простым глазом?!
После краткой остановки в Диу судно взяло курс на Сурат, город, куда только что с карательной экспедицией наведался сам Акбар и откуда лорд Хоуксбенк планировал двинуться к столице Великого Могола уже по суше.
В самую последнюю ночь перед прибытием в Сурат (превращенный разгневанным императором в дымящиеся руины), в то время как Хоукинс Слава Господу на палубе изливал в песнях свою душу перед упившейся вдрызг по случаю окончания долгого морского похода командой, находившийся в капитанской каюте флорентиец наконец обнаружил то, за чем охотился, – в восьмом тайнике, на один больше, чем священное число семь, на один больше, чем мог предположить любой бывалый вор. После этого Учелло присоединился к остальным. Он пел, пил и веселился больше, чем кто-либо другой. Он обладал редкой способностью не спать сутками и потому в предрассветный час, никем не замеченный, воспользовался одной из шлюпок, добрался в ней до берега и исчез, словно фантом.
Он скрылся задолго до того, как Хоукинс Слава Господу поднял тревогу, обнаружив лорда Хоуксбенка из Хоуксбенка в его последней в этой жизни корабельной койке уже с посиневшими губами, навсегда освободившегося от мучительных желаний своей финоккъоны. Учелло ди Фиренце перестал существовать, от него осталось лишь имя, которое он сбросил, как змея сбрасывает старую кожу. Зато у самого сердца безымянного путешественника теперь лежало бесценное сокровище – послание, начертанное рукою Елизаветы Тюдор и скрепленное ее личной печатью, письмо королевы Английской, которое должно было распахнуть перед ним заветные двери во дворец Великого Могола. Он стал послом королевы Англии.
3. На заре дворцы из красноватого песчаника…
На заре дворцы из красноватого песчаника в новом “граде победы” великого императора Акбара казались созданными из клубов багрового дыма. Большинство великих городов кажутся древними чуть ли не со дня своего основания, Сикри же всегда будет выглядеть как город-призрак. Когда солнце стояло в зените, тяжкий молот зноя бил по каменным плитам, отчего люди глохли, воздух дрожал, как перепуганный насмерть раб, а граница между здравым смыслом и бредом, между реальностью и вымыслом становилась зыбкой.
Сам император временами терял эту грань. Привидениями скользили по его покоям, будто играя в прятки, мелькали и пропадали из виду раджпутские князья и турецкие султаны. Одна из царственных особ вообще не существовала во плоти. Это была созданная воображением императора любимая жена. Он выдумал ее, как одинокие дети придумывают себе друзей, и, несмотря на наличие множества вполне реальных, хотя и бесшумно скользящих жен, склонен был считать привидениями именно этих, реальной же для него стала она, несуществующая. Он даже дал ей имя – Джодха, и ни одна живая душа не смела оспорить ее существование. В тиши женских покоев, в шелковых лабиринтах дворца ее влияние и власть крепли день ото дня. Тансен слагал в честь нее песни, в галерее искусств ее красота была запечатлена кистью живописцев и воспета в стихах поэтов.
Великий художник перс Абдус Самад самолично написал ее портрет. Он никогда не встречал ее, он творил по памяти, изобразив ее такой, какой она явилась ему во сне, и когда Акбар увидел его работу, то даже захлопал в ладоши – столь ослепительно прекрасно было ее лицо. “Она у тебя прямо как в жизни!” – воскликнул он. Абдус Самад вздохнул наконец свободно и перестал чувствовать себя так, будто его голова едва держится на плечах. После того как этот шедевр живописного искусства был выставлен на публичное обозрение в галерее, весь двор уверился, что Джодха и вправду существует.
Навратна[14], то есть все девять величайших талантов среди его приближенных, признали не только то, что она существует, но и то, что красотою, умом, грациозностью и мелодичностью голоса превосходит всех прочих. “Ах, Акбар! Ах, Джодха-баи![15] Подобной любви еще не видел свет!”
Строительство города было завершено в срок, как раз к сорокалетию императора. Его строили тяжкие двенадцать лет, но долгое время Акбару казалось, будто город вырастает сам собой, как по волшебству. Его министр строго следил за тем, чтобы во время пребывания Его Величества в своей резиденции никаких строительных работ не производилось. Когда здесь находился император, замолкали молоты каменщиков, плотники не забивали гвоздей, а мастера-декораторы, художники, отделочники, резчики по дереву исчезали из виду. Тогда в городе должны были раздаваться лишь приглушенные, радующие сердце звуки. Слабый ветерок разносил отдаленный перезвон колокольцев на ногах танцовщиц, журчание фонтанов и мелодии гения музыки Тансена. Слух императора услаждали поэтическими шедеврами; по вторникам в открытом павильоне шла неторопливая игра в шахматы – при этом в качестве шахматных фигур использовались девушки-рабыни, – а во второй половине дня в затененных покоях, под огромными колыхающимися опахалами, начинались игры любовные.
Томная атмосфера чувственности, царившая во всех дворцах, была не столько результатом жары, сколько следствием необычайно высокой сексуальной потенции правителя.
Правда, ни один город не состоит лишь из дворцов.
Под стенами дворцового ансамбля, возведенного на мощном монолите красного камня, ютился другой, реальный город из дерева и глины, навоза и кирпича. Здесь люди селились согласно своему происхождению и роду занятий. Одну улицу образовывали лавки торговцев серебром, на другой жили и трудились оружейники со своим громыхающим товаром, еще дальше шли дома и лавки тех, кто торговал тканями, одеждой, украшениями. С восточной стороны тесной колонией жили хинду, далее вдоль городских стен раскинулся квартал персов, затем – квартал выходцев с Алтая – туранцев, а за ним, вблизи пятничной мечети, располагались жилища мусульман, родившихся уже в Индии. Окрестности пестрели поместьями знати; вне дворцового комплекса находились также скрипториум – хранилище рукописей, слава о котором уже успела облететь весь мир, и два павильона: один музыкальный, второй – для танцевальных представлений. Жители “нижних” Сикри в большинстве своем не знали, что такое досуг, и, когда император возвращался из очередного похода и в действие вступал запрет на шум, людям начинало казаться, что их лишают возможности дышать. Из страха нарушить покой владыки владык приходилось, перед тем как отрубить голову курице, вставлять ей в горло кляп. Возница, у которого скрипела телега, мог легко схлопотать кнут, а его крики боли могли повлечь за собой куда более суровое наказание; женщины во время родов зажимали себе рты, а зашедший на базар, где изъяснялись с помощью жестов, подумал бы, что попал к умалишенным. “Когда владыка в городе, мы все дуреем, – говорили люди, но, поскольку шпионов и доносчиков было не счесть, тут же поспешно добавляли: – От радости”.
Люди глинобитного города доказывали свою любовь к императору, но делали это бессловесно, поскольку звук их голосов был под запретом. Когда же владыка отправлялся в очередной поход, на одно из бесчисленных (хотя неизменно победоносных) сражений – в Гуджарат, Раджастан, Кабул или Кашмир, – тюрьму молчания отпирали, и рокотали барабаны, и веселье било ключом, и люди наконец-то могли поделиться друг с другом всем тем, о чем не рассказывали месяцами. Можно было крикнуть: “Ялюблю тебя!”, или “Уменя мать умерла!”, или “Если не отдашь мне долг, я тебе руки переломаю!”, или “Я тоже тебя люблю, милая!”
К счастью обитателей “нижнего” города ратные заботы часто вынуждали владыку покидать свою резиденцию, и в его отсутствие шум и гам перенаселенных бедных кварталов вкупе с грохотом возобновленных строительных работ терзал слух обитательниц женской дворцовой половины. Бедняжки, они ничего не могли с этим поделать! Они жались друг к другу, возлежа на постелях, и тихо стенали, однако то, как и чем именно они пытались отвлечь и развлечь себя за плотными занавесями, мы здесь описывать не будем. Незапятнанной и чистой помыслами оставалась лишь одна из жен владыки – та, которая жила в его воображении. Это она поведала Акбару о тех неудобствах, которые терпят его подданные из-за ретивых чинуш, стремящихся любыми средствами сохранить покой императора. Узнав об этом, Акбар немедленно отменил приказ, заменил жестокого министра общественных работ на более мягкосердечного и велел пронести себя по улицам, возглашая при этом: “Шумите и кричите, люди, сколько душа пожелает! Шум – знак жизни, а громкий шум – признак того, что жизнь – хорошая штука. Успеем намолчаться, когда смерть придет”. Город взорвался радостными криками. В этот день все поняли, что их император не похож на прежних и теперь все пойдет по-иному.

В стране наконец-то настал мир, но душе императора покой был неведом. Он только что вернулся из похода. Он задавил мятеж в Сурате, но и на марше, и во время боя философские и языковые проблемы занимали его ум наряду со стратегическими. Император Абул-Фатх Джелаль-ад-дин Мухаммад, царь царей, которого с детства так и звали – Акбар, то есть “великий”, а впоследствии стали, презрев явную тавтологию, именовать Великий Акбар, то есть великий вдвойне, величайший из великих, настолько великий, что удвоение эпитета почиталось не только уместным, но и совершенно необходимым, дабы с наибольшей полнотой выразить величие его славы; Великий Могол, запорошенный дорожной пылью, закаленный в битвах, непобедимый и меланхоличный, начинающий полнеть и длинноусый, разочарованный и поэтичный, наделенный невероятной мужской силой обладатель абсолютной власти; тот, который был столь великолепен, столь всемогущ, что с трудом верилось, как все это могло сочетаться в одном человеке, – этот правитель, словно неудержимый потоп, поглощающий одно за другим царства и части света, этот многоглавый монстр, говорящий о себе во множественном числе, во время долгого, однообразного пути домой и компании множества отрубленных голов поверженных врагов в наглухо запечатанных кувшинах предавался размышлениям о соблазнительных возможностях, которые представляет употребление формы первого лица единственного числа, то есть местоимения “я”.
Монотонные и тягучие дни путешествия по суше располагают человека соответствующего темперамента к неторопливым размышлениям на самые разнообразные, не связанные между собою темы, и Великий Могол на обратном пути к столице думал об изменчивости мира, о величине звезд, о грудях своих жен и о природе Господа. Ныне же предметом его размышлений явилась проблема грамматическая, а именно употребление личных местоимений первого, второго и третьего лица единственного и множественного числа и их соотношение с личностью как таковой. Сам Акбар никогда – ни в мыслях, ни во сне – не говорил о себе “я”. По отношению к себе он всегда употреблял “мы” – иначе и быть не могло. Император был воплощенное “мы”: произнося “мы”, он твердо и вполне искренне был убежден, что вмещает в себе все народы, все города и земли свои, все горы, долины, реки и озера, все растения – словом, все, что жило и дышало в пределах его царства, включая птиц, кусачих комаров и безымянных гадов, затаившихся под землей и расшатывающих основы Вселенной. Он являл собой воплощение и итог всех побед, вместилище всех качеств, способностей, жизненного опыта и, пожалуй, даже душ своих поверженных или временно усмиренных врагов. Кроме того, он был убежден, что в его особе заключено прошлое и настоящее народа и в ней же залог его будущего.
“Мы” – только так и следует называть себя государю. Однако чисто умозрительно, а также справедливости ради можно предположить, что простые смертные, думая о себе, тоже употребляют форму множественного числа. Неправы ли они? Или – о предательская мысль! – неправ он сам? Быть может, представление индивидуума о себе как о члене некоего сообщества, по сути дела, и означает реальное существование в мире, пребывание среди себе подобных как часть бытия вообще. Может статься, употребление по отношению к себе формы личного местоимения во множественном числе вовсе не является прерогативой государя, его священным, исключительным правом? Можно ведь предположить далее, что поскольку качества монарха – пусть даже в менее рафинированной, примитивной форме, – словно в зеркале, находят отражение в мыслях его подданных, то это неизбежно должно было привести к тому, что как мужская, так и женская части его народа тоже иногда говорят о себе “мы”. Возможно, они употребляют это местоимение, подразумевая себя, своих детей, матерей и теток, своих братьев по вере, знакомых или друзей. Как и он, эти люди соединяют в себе множество “я”. Человек может думать о себе как об отце семейства и в то же время являться сыном для тех, кто произвел на свет его самого; с хозяином он будет не таким, как у себя дома с женой. Короче говоря, каждый человек не что иное, как мешок, набитый разнообразными “я”, точно так же, как и он сам. Тогда выходит, что между правителем и его подданными особой разницы нет?
И тут заинтересовавшая его первоначально лингвистическая проблема неожиданно предстала перед ним в новом, пугающем варианте: если люди, которыми он правит, все же предпочитают, говоря о себе, употреблять местоимение первого лица в единственном числе, то, возможно, и он сам вправе говорить о себе “я”?! Быть может, это “я” и обозначает отдельного индивидуума, отличного от прочих? Быть может, именно это неприкрытое, единичное я” и есть ядро, затоптанное в мире бесчисленными “мы”?
Вопрос напугал его всерьез. Не знающий страха и поражений и, что греха таить, довольно тучный, он скакал на белом коне, направляясь домой, но от собственного вопроса ему стало не по себе. Той ночью проблема “я” не дала ему уснуть. Что он скажет Джодхе при встрече? И если он скажет “это я” или “я вернулся”, ответит ли она ему, употребив интимно-фамильярную форму, то самое “ты”, которое обычно употребляют при обращении к детям, возлюбленным или богам? И что тогда это будет означать? Что он для нее как дитя или как бог или он просто желанный возлюбленный, которого она создала силой своего воображения, подобно тому как создал ее он сам? Может статься, это малюсенькое словечко и является самым трогательным и самым возбуждающим словом в языке. “Я – робко, едва слышно прошептал он. – Я здесь. Я люблю тебя. Иди ко мне”.
На обратном пути его ждало еще одно, последнее, военное предприятие. Следовало примерно наказать некоего возомнившего о себе невесть что князька. Раздавить упрямца – правителя Кучх-Нахина, что на полуострове Катиявар. Правитель был молод, слишком говорлив, к тому же обладал великолепными усами (усы были гордостью императора, и он не желал иметь соперников по этой части). Глупый князек почему-то обожал говорить о свободе. “Свобода – для кого и от чего? – возмущался про себя Акбар. – Свобода – это сказка для детей, это забава для женщин. Ни один человек на земле не свободен”.
Под прикрытием белесых деревьев лесного массива Гир полки Акбара бесшумно, словно чума, подобралась к самым стенам жалкой крепости Кучх-Нахин, и ее защитники, угадав во внезапном треске ломающихся деревьев приближение смертного часа, сами снесли укрепления, выкинули белый флаг и стали молить о милосердии. Вместо того чтобы казнить побежденного противника, император частенько забирал его дочь себе в жены, а побежденному тестю предоставлял какую-нибудь должность при дворе, справедливо полагая, что врага лучше сделать родственником, нежели гниющим трупом. На сей раз, однако, он в ярости выдрал наглому красавчику усы и изрубил его на куски. Он сделал это самолично, своим собственным мечом, как наверняка сделал бы его дед, после чего, весь дрожа, терзаясь угрызениями совести, удалился к себе в шатер.
У императора были большие с прищуром глаза, как у юной мечтательницы или у моряка, жаждущего увидеть землю, они всегда были устремлены куда-то вдаль. Припухлые, по-женски чувственные губы были сложены в капризную гримасу. Правда, несмотря на женственные черты лица, он был мужчиной в превосходной степени, с могучим, крепким телом. Совсем мальчиком он задушил тигрицу голыми руками, но, придя в смятение от своего поступка, поклялся никогда в жизни не есть мяса и стал вегетарианцем. Травоядный мусульманин, воитель, мечтавший о мире, император-философ… Одним словом, клубок противоречий. Таков он был, этот величайший правитель, которого когда-либо знал мир.
На никому не нужные мертвые тела, на залитую кровью, разрушенную крепость опустилась ночь. Внизу, в долине, Акбар, сидя в своем разубранном шатре, под журчавшие, словно ручеек, соловьиные трели, как всегда после кровопролитного сражения, предавался черной меланхолии и горько сокрушался по поводу своего личного генеалогического древа. Он не хотел, ну никак не хотел походить на своих кровожадных предков. Их имена – имена грабителей и захватчиков – угнетали его. Его собственное имя принесло к нему с каскадами человеческой крови. Дед его Бабур был воитель родом из Ферганы. Он покорил Хиндустан, но терпеть не мог это новое свое владение, где всегда было слишком много всего – слишком много богатств и слишком много богов… Бабур был машиной для уничтожения с удивительным даром красноречия; до Бабура в роду Акбара были правители из Трансок-сании[16] и Монголии. Самым известным среди них был Темучин, он же Чингисхан, которому Акбар был обязан тем, что прозывался также “могол” или “монгол”, каковым себя не желал чувствовать. Он ощущал себя… хиндустанцем. Его “орда” никогда не была ни Золотой, ни Голубой, ни Белой. Само это слово, орда, резало ему слух, казалось неприятным, грубым, как свинячье хрюканье. Он не желал иметь в своем подчинении орду; не хотел заливать глазницы врагов расплавленным серебром или расплющивать их в лепешку тяжелым помостом и пировать на нем с соратниками. Он устал от войн. Ему вспомнилось, как первый его наставник, перс Мир, говорил ему о том, что человек, желающий быть в согласии с самим собою, должен научиться жить в мире с другими. “Сулх-и-кул — глубокий покой”, – твердил он. Ни один хан не понял бы его. Но ему, Акбару, не нужно ханства. Ему нужна просто его страна.
Темучин был далеко не единственным среди его предков, кто не знал пощады. Своим появлением на свет он был обязан Тимуру, которого прозвали Железная Нога. Этот Тимур, или Тамерлан, разрушил до основания Дамаск и Багдад и оставил от Дели руины, населенные пятьюдесятью тысячами духов убиенных. Нет, Акбар определенно предпочел бы иметь других предков. Он давно перестал говорить на чагатае, языке, названном в честь одного из сыновей Чингисхана, и сначала изъяснялся на фарси, а затем стал пользоваться языком-ублюдком, рожденным и выросшим в армейской среде, – урду В нем смешалось около дюжины самых разных говоров; из скрежета и свиста, ко всеобщему изумлению, возник красивейший и благозвучнейший язык – язык поэзии.
Смуглокожий правитель Кучх-Нахина был строен и очень молод. Его лишенное усов, ободранное лицо заливала кровь. Он опустился на колени перед Акбаром и замер в ожидании рокового удара.
– История повторяется, – еле выговорил он. – Семьдесят лет назад твой дед убил моего.
– Наш дед, – молвил Акбар, привычно употребляя множественное число первого лица (сейчас было не время экспериментировать – еще не хватало, чтобы свидетелем эксперимента стало это ничтожество!) – был варваром, который умел говорить, как поэт. Мы же, напротив, поэт с варварским прошлым и со своей, присущей варвару, ратной долей, но она внушает нам отвращение. Это как раз доказывает, что история не знает повторений: она движется вперед, и человек меняется тоже.
– Странно слышать такое от палача, – тихо произнес юный правитель, – хотя что толку спорить, когда перед тобой сама Смерть.
– Да, твой час пробил, – холодно согласился император. – Но прежде чем умереть, скажи честно: каким тебе видится рай – там, по ту сторону занавеса?
Князь поднял обезображенное лицо и взглянул прямо в глаза Акбару:
– В раю “почитание” и “несогласие” не противоречат друг другу. Всевышний не тиран. В обители Господа каждый свободно может выражать свои мысли, это способ почитания.
“Щенок, зазнайка, воображает, что умнее всех”, – с раздражением подумал Акбар, но слова князька нашли отклик в его душе.
– Обещаем построить особый храм для такого рода почитания, – сказал он и с возгласом “Аллах акбар!”, что могло означать “Аллах велик” или же “Акбар Всемогущий”, отрубил жалкому прыщу его наглую, несговорчивую и и вмиг ставшую абсолютно никчемной голову.
После убийства князька, как всегда в подобных случаях, Акбара посетил знакомый демон одиночества. Всякий раз, когда кто-нибудь смел говорить с ним как с равным, Акбар впадал в бешенство. Он понимал, что это нехорошо: гнев правителя – его недостаток, гневливый правитель все одно что ошибающийся бог. Одно из главных противоречий его натуры в том и заключалось, что он, будучи не только философствующим и плачущим убийцей, но еще и эгоцентриком, привыкшим к раболепию и лести, тем не менее тосковал по совсем иному миру, такому, где он мог бы встретить равного себе, родственную душу, брата по разуму, человека, с которым можно было бы делиться мыслями, обмениваться знаниями, испытывая и даря радость общения; он мечтал о таком устройстве мира, при котором можно было бы одержать над противником верх не посредством кровавой расправы, но способом более приятным, хотя и требующим напряжения всех умственных сил, – то есть в ходе диспута. Существует ли такой миропорядок и можно ли найти к нему дорогу? – спрашивал себя император. Существует ли на свете равный ему человек? Может статься, убитый князек с отодранными усами как раз и был тем самым человеком. Неужто он сейчас убил единственного, кто мог бы сделаться его задушевным другом? Под влиянием выпитого вина мысли Акбара становились все более сбивчивыми и сентиментальными, и на глаза навернулись пьяные слезы. Какой путь избрать, чтобы добиться желаемого – стать по-настоящему Акбаром?
Говорить было не с кем. Своего личного слугу, глухого Бхактирама Джайна, он прогнал прочь, чтобы никто не мешал ему пить. Глухой слуга хорош тем, что не слышит, о чем бормочет его пьяный господин, однако Бхактирам научился читать по губам, и это обесценило его; он теперь мог продать его, как и всякий другой.
Шептались, что владыка безумен. Об этом твердили все: его солдаты, его слуги, его жены. И Бхактирам, возможно, говорил за его спиной то же самое. Разумеется, в лицо это ему не смел бросить никто: он, словно сказочный герой, был огромного роста, он был доблестным воином, и коли такой человек предпочитал слыть чуть-чуть не в себе, то это его, императорское, дело. Император, однако, не был помешанным. Просто он был недоволен самим собой. Он изо всех сил пытался найти себя.
Ладно, он выполнит обещание, данное им князьку Кучх-Нахина, – воздвигнет новый храм, который станет местом для диспутов, где каждый будет иметь право высказывать свои мысли на любую тему, включая такие, как существование Всевышнего и необходимость императорской власти. Возможно, в этом новом храме он научится терпимости. Нет, не то чтобы заново научится, а постарается реализовать ту терпимость, которая – он это чувствовал – и без того была органически ему присуща, только спрятана глубоко в сердце. Тот смиренный Акбар, порожденный детскими годами, проведенными в изгнании, наверное, лучшее из всех его “я”. Под внешними символами власти в нем еще наверняка жив Акбар-ребенок, чье детство прошло не под знаком побед, но под знаком неудач. Неудачником был его отец. Неудача носила имя Хумаюн.
Он не хотел вспоминать об отце. Тот слишком любил опиум, потерял империю и вернул себе власть лишь после того, как прикинулся шиитом (и вдобавок передал владыке Персии знаменитый алмаз Кох-и-Нор), чтобы ему дали войско, но почти сразу после возвращения к власти умер, упав с лестницы в дворцовой библиотеке.
Акбар никогда не видел своего отца. Он родился в Синде, после поражения Хумаюна в битве при Чаусе, когда царская власть, которая по праву принадлежала Хумаюну, но к которой он оказался непригоден, оказалась в руках Шер-шаха Сури. Бросив сына, лишившийся трона отец ретировался в Персию. Подумать только: оставить на произвол судьбы своего годовалого сына! Допустить, чтобы его нашел и взял на воспитание брат и заклятый враг Хумаюна – дядя Аскари из Кандагара, беспощадный Аскари, который задушил бы его собственными руками, если бы смог добраться до него, но добраться до него он не смог, ибо рядом с ребенком всегда была жена Аскари. Акбар остался в живых потому, что так решила его тетка.
Там, в Кандагаре, он и освоил науку выживания и борьбы, научился тому, как убивать и выслеживать добычу; научился – хотя никто его не учил – и многому другому, например, что следует надеяться лишь на собственные силы, что следует держать язык за зубами и не говорить лишнего, иначе тебя запросто могут убить. Там и тогда он понял, что такое потеря и как, даже потеряв все, можно сохранить достоинство; понял и то, как иногда полезно для души признать свое поражение; там и тогда он приобрел умение вовремя отступать, не попадаться в капкан собственных желаний, как бы сильны они ни были; там и тогда он узнал, что такое быть покинутым вообще и родным отцом в частности; там он понял, что бывают никчемные отцы и никому не нужные дети. Там же, в Кандагаре, он научился самым действенным способам, к которым прибегает слабый для защиты от того, кто старше и сильнее: научился скрытности, предусмотрительности, хитрости, смирению, а также умению видеть не только то, что перед тобой, но и то, что вокруг, то есть выработал периферическое зрение.